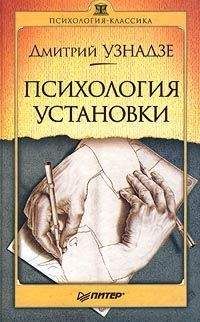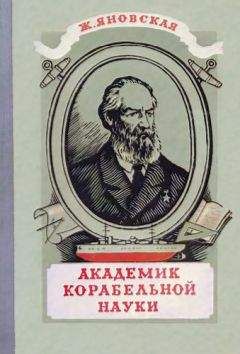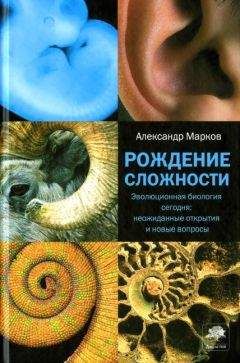Ваграм Апресян - Время не ждёт
Купцов поддерживают, хваля товар, сгонщики скота, вконец охрипшие горькие пропойцы, с обветренными жесткими лицами, красными припухшими веками, одетые в кафтаны и армяки, местами подпаленные огнями ночных костров.
В конечном счете кто-то кому-то уступает или уступают обе стороны, и раздается громкое хлопание рук. Вот двое стоят в цепком рукопожатии через полу шубы или поддевки, в зависимости от сезона, трясут друг другу руки. Торг состоялся. Один хлопок иногда означает покупку полуторы тысяч голов скота с барышом по пять-семь тысяч рублей купцу или мясопромышленнику. Вот почему в торжественный момент заключения сделки со всех сторон лезут к ним сгонщики скота, хриплыми голосами вымаливают магарыч и, получив «синенькую»— пять рублей — или «зелененькую»— три рубля, спешат в третьеразрядный кабачок обмыть куплю-продажу.
Идя от священника мимо одного из таких кабаков, Шура услышал знакомые голоса сгонщиков и вспомнил, что днем происходили торги. В такие дни Михаил Александрович больше обычного бывал занят проверкой состояния убойного скота и качества мяса. Мальчик пожалел, что не скоро удастся поделиться с отцом мыслями, которые его сейчас так волновали.
Сгонщики скота пьяными хриплыми голосами пели какую-то заунывную песню. С сенного двора доносились рев и тревожное мычание животных. Навстречу попался городовой. Он вел молодого парня по мосту Обводного канала, скрутив ему за спиной руки. Лицо арестованного было искажено от боли и страха.
Все виденное и услышанное в этот вечер имело какую-то внутреннюю связь и подействовало на Шуру удручающе. Подойдя к дому, он услышал знакомые 1 звуки фортепьяно, на котором хорошо играла его мать. Контраст между музыкой Шопена и горлодерством хмельных сгонщиков скота, — контрасты противоречивой жизни, в которой, неизвестно как и почему, уживаются прекрасное и безобразное. Шура снял фуражку, шинель, зачесал короткие волосы ежиком и присел, застыв в кресле. Как всегда хорошая музыка вызвала у него хорошее, радостное настроение, отодвинув куда-то отталкивающее и бесчеловечное, что он увидел сегодня...
Разговор с отцом состоялся в следующее утро — в воскресенье. Выслушав сына, Михаил Александрович нахмурил брови. Затем поднял их и, взглянув сыну в глаза, заговорил с ним откровенно, решив, что наступило время поделиться с Шурой некоторыми своими взглядами на жизнь, поговорить о поступках людей. Михаил Александрович начал порицать чиновников за бездушие и угодничество, за карьеризм и продажность, говорил о сложной игре вокруг людских судеб, затеваемых юристами, о лицемерии духовенства, об алчности промышленников, о прожорливости департаментов. Он приводил множество ярких примеров, изливал свои чувства, забыв о возрасте сына.
Но отец был далек от мысли изображать все одними черными красками. Была и другая сторона жизни, чуждая, противоположная той, о которой он только что говорил. В большинстве бедные, простые люди не лукавят, не лгут, работают в поте лица, творят добро и довольствуются малым. Магистр и о них рассказал, приводя множество фактов их честной жизни, и вдруг замолк, осененный, как видно, какой-то новой мыслью. В глазах его вспыхнул знакомый Шуре блеск. Сейчас отец скажет что-нибудь исключительно интересное и приятное. Загорелись и глаза Шуры, точно такие же серые, как у отца. Михаил Александрович провел пухлой ладонью по высокому лбу, погрузил пальцы в седеющие волосы и с жаром воскликнул;
— А почему бы тебе, Шура, не поехать в Белый колодезь. Там близко увидишь, как живется нашему народу, познакомишься с нашими родственниками, поживешь с ними и тогда многое поймешь сам.
Белый КолодезьПоезд шел на Москву. Ветер мотал длинный султан дыма. За окном мелькали разреженные лоскутки пара, мимо медленно проплывали болотистые поля, рощи, одетые в молодую яркую зелень, а вдали неясно вырисовывались очертания огромного города.
Провожая сына в родное село, Михаил Александрович непрочь был бы и сам наведаться туда, но задержался по делам, обещав Шуре выехать недели через две. Поездка без отца представлялась не такой приятной, но, с другой стороны, мальчик необычайно гордился первым самостоятельным путешествием в такую даль, как Воронежская губерния. С особым удовольствием он забрался на верхнюю полку вагона, прилег ничком и положил подбородок на кулаки. Глядя в окно, он задумался над напутственными словами отца:
«... Люди там обездоленные, придавленные нуждой, обиженные судьбой. Увидишь у них много убогого, темного, необыкновенного с точки зрения наших привычек и понятий, — не удивляйся этому, по крайней мере, не показывай им своего удивления. Это их обидит. Обращайся с ними, как с равными, помни, что и отец твой вышел когда-то из их среды».
«Ког-да-то, ког-да-то, ког-да-то!..», — повторяли колеса безумолку на стыках, назойливо, до самой Москвы.
В Москве Шура решил осмотреть памятники старины. Он пошел от Каланчевской площади, через Красные и Мясницкие ворота, до Лубянки и дальше по Никольской улице до Красной площади. Здесь задержался, любуясь величавыми зубчатыми стенами Кремля с его высокими остроконечными башнями с двуглавыми орлами; поднялся по ступенькам на Лобное место и постоял, задумавшись, на том самом месте, где казнили Степана Разина. «Василия Блаженного» Шура оглядел со всех сторон и вошел внутрь храма. От всего виденного в Москве на него повеяло историей древней Руси — любимейшим предметом на уроках в гимназии. Потом он двинулся в Зарядье, покружился по узеньким переулочкам и заблудился. Пора было уже возвращаться на Каланчевскую площадь. Шура попробовал: повернул направо — переулок, налево — тупик, назад—опять кривой узкий переулок... и запутался безнадежно. Вдруг мальчик вспомнил свой прошлогодний лабиринт и улыбнулся. В Москве он оказался вроде маленькой рыбки, попавшей в лабиринт. Но Шура совсем не испытывал страха. Ведь можно же узнать дорогу на вокзал у прохожих. Вот, например, у этого дяденьки, одетого по воскресному в светлую рубашку с вышивкой и подпоясанного тесьмой с кисточками.
— Как мне попасть на Каланчевскую площадь?— спросил он у него.
— А ты кто будешь?— в свою очередь спросил пожилой мужчина, приветливо улыбаясь. Шура охотно рассказал о себе.
— И с утра ходишь-бродишь не емши? Ай-яй-яй, — сокрушился незнакомец и предложил:—идем!
Гимназист доверчиво последовал за ним, забыв о том, что дома его предостерегали от общения со случайными людьми. Шагая, Шура думал о куполах «Василия Блаженного», стараясь запомнить, какие из них с шишками, какие с витыми, какие с прямыми полосками... Опомнился он в полутемной комнате с низким потолком в глухом переулке. Вот и «вышел» из «лабиринта»! Сердце слегка сжалось от недоброго предчувствия: ну, не глуп ли он, как одна из тех рыбок, которые вместо выхода из лабиринта, угодили на сковородку? Между тем усатый вышел за дверь и начал с кем-то шептаться. Сердце сжалось сильнее. О чем они там шепчутся? И кто такой этот человек с большими обвисшими усами? Что у него на уме?..
Вошла женщина с охапкой сосновых, пахнущих смолой, стружек и щепок и скрылась за другой дверью. Шура сообразил: значит, этот дядька столяр, и ему стало радостно от этого открытия и стыдно за свои недобрые мысли. Нахмурив брови, он отважно сел, заботливо зачесал свой ежик. За дверью зашипела сковородка, вкусно запахло жареным луком и мясом. Вошел хозяин и, потирая руки, оживленно сообщил:
— Сейчас пообедаем, а потом погуляем по Москве. Хозяйка накрыла стол и накормила обоих простым, но вкусным и сытным обедом.
Пообедав, Григорий Иванович — так звали хозяина — и его случайный гость сели на конку и поехали на Театральную — поглядеть на Большой театр, потом — на Сухаревскую площадь. Весь длинный летний день они осматривали город. Вечером Григорий Иванович усадил Шуру в поезд и пожелал ему счастливого пути. Поезд тронулся. При тусклом свете привокзального фонаря Григорий Иванович махал цветным платком, улыбаясь подростку, как родному сыну. Растроганный Шура с чувством признательности думал: «Что за человек — Григорий Иванович? Он наверно из того «сорта» людей, о которых так тепло отзывался отец, говоривший, что их много на Руси».
Когда сумерки и расстояние поглотили Григория Ивановича, мальчик вдруг вспомнил, что не спросил его фамилии и адреса. Ах, как жаль! И крепко же они подружились за день — водой не разольешь.
На станции, недалеко от Белого Колодезя, Шуру встретил родственник — Иван Котречев, предупрежденный письмом. Котречев положил чемодан в телегу, полную мягкого пахучего сена, усадил мальчика и весело покатил по проселочной дороге. Выехали в поле. Вокруг спокойно колыхалось бескрайное море зеленых, с серебристым отливом, хлебов. Безоблачное синее небо казалось более просторным и синим, нежели холодное петербургское небо. Солнце здесь тоже было другое; оно палило нещадно, и перед глазами Шуры, словно река, могучим потоком двигался горячий воздух, насыщенный пьянящим запахом полевых цветов и тонким перезвоном кузнечиков.