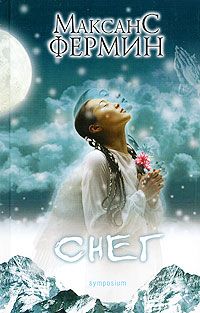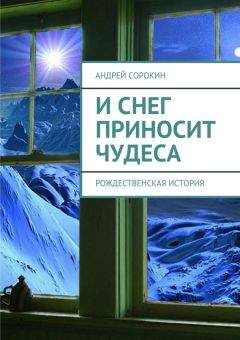Альберт Мифтахутдинов - Совершенно секретное дело о ките
— Ну, а еще чего привезти?
— Бабу привези. Танцевать под «Спидолу» будем. Давно что-то у нас танцев не было.
Засмеялся Бровин, махнул рукой, оттолкнули лодки от берега, вышли они на стремнину, дернул он веревку, взревел новый «Вихрь» — и пошел Бровин в Ост-Кейп, вот уж и скрылся на повороте, за сопкой.
Во время отсутствия подменял его Медучин. Неводили несколько раз, улов средний.
В ледник рыбу не клали, а коптили и вялили, потому что нельзя сверх нормы загружать ледник, разморозится и тогда совсем ни о какой добыче не может быть и речи. Что толку ловить, если хранить негде.
…Ждали Бровина неделю. Наконец из-за сопки показалась его дюралька. Мотор ребята слышали и раньше, гадали — кто же едет, побежали за биноклем.
— Никак, Бровин? — щурился в окуляры Шкулин.
— Да нет, — возразил Медучин. — Там какой-то второй человек, в красном. Может, геологи?
— И правда… Эй, дед! — заорал Шкулин. — Ставь чай, открывай буфет, гости-и!!
— Ладушки, ладушки, где были — у бабушки, — потирал руки Шкулин. Он чувствовал выпивку. Побежал помогать старику возиться с печкой.
Лодка причалила к берегу. Медучин спустился к реке, увидел Бровина. Рядом с ним была молодая женщина в красной кофте. Бровин помогал ей выйти из лодки.
— Принимай!;— обрадовался он, увидев Медучина. — А то брошу в набежавшую волну!
Медучин помог женщине.
— Анфиса… — смущенно протянула она руку.
— Наука, — ляпнул он с перепугу. Предчувствие будущих неприятностей шевельнулось в его душе.
Стали выгружать из лодки вещи.
— А вы идите вон в тот дом, — показал ей Медучин. Она взяла рюкзак и медленно пошла по тропинке в гору.
— Это еще что за явление? — спросил Медучин.
— Ты ж сказал — привезти бабу. Вот я и привез! — улыбка у Бровина до ушей.
— Ну, я это… я просто так! Пошутил!
— Так ничего не бывает. Сказано — сделано, — по-прежнему улыбался Бровин.
— И что же теперь?
— Ну не танцы же танцевать! — расхохотался Бровин. — Для чего баба?
— Знаешь, иди ты к черту! — махнул рукой Медучин. — Сам расхлебывай!
Он взвалил на плечи ящик с хлебом и пошел к дому.
Анфиса мыла в кастрюле мясо, она уже успела познакомиться с дедом и Шкулиным и держала себя так, будто здесь в Избяном не впервой. И тут Медучин рассмотрел ее.
Черные глаза, толстые губы, длинные черные волосы. «Лет двадцать пять», — решил Медучин. Плотная, сбита крепко, брюки еще больше подчеркивают широкие бедра.
«Метиска, — поймав ее взгляд, — решил Медучин. — Мать чукчанка. Да и походка чуть вразвалку, это от ходьбы по тундре укоренилась. Тундровичка».
— Ну как? — тихо толкнул его в бок Шкулин. — А? С такой бабой можно прозимовать и печку не топить!
— Ммда… — буркнул Медучин.
…Стол получился на славу. Бровин привез хлеба, вина, сухой картошки, сухого луку, сахар и чай, а все остальное тут было свое — свежая и вяленая лосятина, рыбные копчености, икра и соленья.
От долгого воздержания и сытной еды захмелели сразу. Шкулин суетился, егозил. То в рюмочку Анфисе вовремя подольет, то тарелочку подвинет, то случайно обнимет за плечико. Не нравилось это Медучину.
«А впрочем, — подумал он, — какое мне дело? Вот если бы он мне дорогу перебежал… а так чего? Пусть…»
Улыбаясь, Бровин сбросил руку Шкулина с Анфисиного плеча.
— Веди себя, Анфиса, как учили, чтоб не было промеж мужиков из-за тебя разладу.
— Ну уж, прямо разлад, — кокетливо повела плечиками.
— Прямо, криво ли, а баба — она что? Она нашего брата с пути сбивает, — жестикулируя, громко продолжал Бровин. — Что хоть делай, а натерпелся я из-за ихнего слабого полу.
Дед Тимофей всем разлил, себе — нет, улыбался, слушал.
— Как сейчас помню, шоферил тогда, — рассказывал Бровин. — Ехать бы мне спокойно и не смотреть по сторонам, не отвлекаться, а я гляжу — голосует красотка, эдак пудов на семь, никакой тебе миниатюры! Я плавно торможу и говорю, мол, пардоньте, мадам, садитесь, ежели по пути. Она влезает в кабину, машина аж осела, и мы едем дальше. Смотреть бы мне вперед, не отвлекаться, а я говорю ей что-то такое, коленка у ей теплая, и тут на повороте выскакивает «Москвич». Я крутанул свой грузовичок и натурально оказался в кювете — колесами вверх. Дверь заклинило, мадам кричит. Разбиваю стекло — выхожу на свежий воздух. Хоть бы царапина на мне, только шишка на лбу. А она, соседка то есть, стоит на голове, никак в кабине развернуться не может и кричит. «Спокойно, — говорю ей, — без паники, сейчас вызволю!» Потом смотрю, а на нее масло капает, вот почему шум такой! Что ж теперь будет?! Враз инспектор на мотоцикле — тут как тут. Вытащили мы её с инспектором, утешили, отвез он ее на мотоцикле в больницу, ну а я своим ходом, как было велено, в милицию. Пока суд, то да се, чувствую, будет мне и белка, будет и свисток. Ни за что, можно сказать, ведь я ей даже передачку один раз в больницу носил. Так и вышло. На суде спрашивают — вы Бровин? Мы, говорю. Иди, говорят, Бровин. Отдохни, говорят. Два года.
— Ну и как отдыхалось? — съехидничал Шкулин.
— Нормально… как. Начальник жаловался, не тот, говорит, уголовник пошел. То сопляк какой-нибудь, первый раз выпил и в клубе надебоширил, то бухгалтер липовый, дебет с кредитом свести не может, то, как я, раззява, — и ни одного злодея. Хоть счас ворота раскрывай, никто не убежит. На вас, говорит, диссертации не напишешь, хороший был капитан. Да и колония ничего, кормежка три раза на день, банька, кино каждый день, книги-журналы. Трудись, перевыполняй нормы. Меня даже вечернюю школу посещать заставили. А работы — любую, пожалуйста, кто бы отказывался, а мне самую трудную, любую машину хитрую, хоть какие там приборы да премудрости, докопаюсь до сути сам. Бровина, говорят, экстренно! Я прихожу и делаю. Очень мне доверяли, даже в поселок выпускали, на день, иногда. Я всегда вовремя возвращался. Подводить людей, если кто ко мне по-человечески, никогда не буду. Вот сказал Наука, привези, говорит, из Ост-Кейпа…
— Но, но, но… Бровин!
— А чо? Ну, ладно, ладно…
Анфиса вела себя спокойно, ни о чем не спрашивала, будто давно здесь была и наперед знала, как жить будет и что делать. Это тревожило Медучина.
«А вдруг Бровин по дороге наговорил ей про меня черт-те чего?» — подумал он. От этой мысли стало ему неловко, и каждый раз, когда Анфиса смотрела на него, он отводил взгляд, нервничал, делал зряшные дела — подрезал и без того хорошо горящий фитиль свечи, брал кусок и начинал есть, хотя давно насытился, вставал и крутил ручку «Спидолы», хотя музыка была как на заказ и волна не пропадала.
— Не имела баба хлопот, да купила порося, — как будто угадав его мысли, ни к кому не обращаясь, вздохнул захмелевший Шкулин. Он вышел из-за стола, топнул два раза ногой.
— И-эх! — раскинул руки. — Найди, Наука, что-нибудь для души, халю-галю иль фокстрот, плясать буду! Давай, Анфиса, выходи в круг!
Анфиса сидела за столом, улыбалась.
В эфире грохотал джаз. Не обращая на него внимания, Шкулин шел по кругу с притопами и прихлопами.
— Давай, Петро, цыганочку с вы-х-хо-дом! — закричал Бровин.
Дробно зачастил Шкулин, пустился в пляс, помогая себе частушкой:
— Моя милка чешет-чешет
По сухому клеверу.
Без штанов и без рубахи.
Привыкает к северу!
И-йэх!
Бровин выскочил из-за стола, затопал:
— Ладушки, ладушки, где были, у бабушки!
Не удержалась Анфиса, выскочила следом.
«Ну вот, — удовлетворенно подумал Медучин, — танцы все-таки состоялись».
Дед Тимофей наблюдает за пляской, улыбается, лицо его благодушно, хлопает он в ладоши, помогает танцующим, стучит ногой под столом.
И-йэх! Й-йэх!
Не вводи меня во грех!
Я молоденька девчонка,
А целуюсь лучше всех!
Ладушки, ладушки…
Медучин догадывался, что частушки у Шкулина собственного сочинения. Шкулинские импровизации забавляли его, но он все же боялся, как бы тот не сморозил чего по запарке да под всеобщий пляс.
— Чего сидишь, Наука? Выходи, не брезгуй!
Мы не хуже и не лучше —
Перед богом всё равны.
Посмотрел бы ты, Медучин,
На себя со стороны!
И-йэх! Ладушки...
Все расхохотались. Медучин вышел, взял Анфису за руки, темп пляски сбился, и тут всё услыхали «Спидолу», затихли, и под грустную мелодию джаза танцевали они вдвоем, а Бровин и Шкулин ушли к столу, не мешали.
Анфиса танцевала легко, умело. Это удивило Медучина, и он забыл о своих опасениях. «У всех хорошее настроение, это главное», — подумал он.
Музыкальная программа закончилась. Дед Тимофей разлил по последней, Анфиса принялась убирать со стола, и это понравилось всем, заметил Медучин.