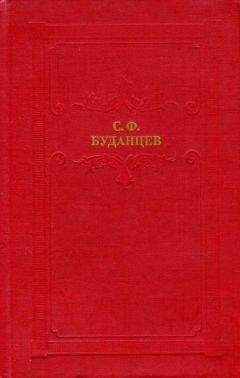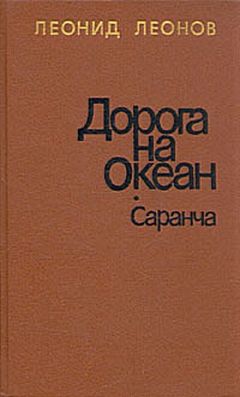Сергей Буданцев - Саранча
— Пан, ты любишь семью и счастлив в семейной жизни. Как подступиться к бабе, с чем? С услугой? С помощью? Вырвать благодарность?
— Хе, благодарность! Нужно бить на тело. А там пойдут дети и всякая ремузия.
Его слова хлюпали и тонули в шуме хлябей. Он не любил отвлеченных вопросов.
Дождь лишал их не только направления, но и чувства равновесия. Вильский поддерживал приятеля под локоток и настойчиво вопрошал:
— А вы слыхали, что болтают? Чи не балакали вам о том, что Михаил Михайлович укрывается от большевиков? Что он бывший белый офицер и должен быть на особом учете? Ему будто бы стоило больших трудов устроиться в нашу глушь. И у него есть связи?
— Чепуху ты городишь, пан, и все это тебе наплел Бухбиндер.
— А не Бухбиндер пронюхает, то кто? Он мне нынче говорит: «Там Онуфрий около Крейслерихи вьется. И сам того не разумеет, что она готова для своего Мишеньки не только дочь, но и себя уморить. Куда уж алкоголику нашему!»
Веремиенко остановился, вырвал локоть, отступил на шаг и проклинал пьяным злобным шепотом откуда-то из мокрой бездны:
— А, сволочи, чтобы вы сдохли! Уже сплетничаете?! Ты передай, чтобы он молчал в тряпочку. Пусть себе воняет около касторки, не то я разобью его жирную морду. И тебе советую не впутываться.
Матеря лужи, любовь, белых офицеров, он заковылял к своему флигелю.
Вошел, щелкнул выключателем. Желтый свет метнулся на пятнистые стены, хозяин прикрыл лампочку газетой. Жил он скудно, голо. Деревянный стол, продранное плюшевое кресло, табурет у железной кровати с сенным матрацем и шинельного сукна одеялом — вот и вся обстановка. Была еще вторая комната, для приезжих, в ней стояла только складная койка. В комнатах удушливо, как в театральной курилке, пахло застарелым табачным дымом, табачным пеплом.
Онуфрий Ипатыч посидел несколько минут не раздеваясь, на пол натекла лужа, закурил, снова вышел на дождь, в тьму, ворча: «Дьявол с ним, извинюсь», — спотыкался о загадочные препятствия, пробирался ощупью, словно двор был заставлен капканами, стараясь держать прямиком на маячившие три окошка. Попыхивание дизеля приближалось. Хмель, еще в комнате обнимавший в теплых объятиях, теперь, на дожде, отпустил. Онуфрий Ипатыч ощутил тоску, похожую на ломоту в плечах. Добрался наконец к окну, заглянул в светлое и теплое нутро жилища пана. Вчуже стало душно от четырех кроваток по стенам; в двух спало по двое детей: потомства пана Вильского насчитывалось шесть душ. Их секли ежедневно, исключая воскресенья. Счастливый отец, сидя спиной к окну, деятельно жевал — шевелились уши — и, размахивая руками, внимал жене, коротконогой толстухе с грудями, выделявшимися из-под кофты, как две тыквы, первой своднице и сплетнице по округе, любительнице участвовать в чужих страстях, с наблюдательностью, в этом деле прямо-таки пугающей.
— Пусть соткнутся, не тебе им мешать!
Онуфрий Ипатыч услыхал это, воровски открыв дверь из темных сеней в прихожую. Марья Ивановна осеклась. Понял, — речь шла о нем. Нарочито тяжело ступая, ежась в своем немыслимом плаще, он криво сунул руку хозяйке и не садился.
— Ты прости, пан, погорячился. Знаешь, мотня какая собачья. Тебе хорошо, наблюдай за машинами, которые не работают, а на динамке — помощник. Вы — механики! И вы, Марья Ивановна, не сетуйте, что долго не заходил. Опасался скарлатину занести, как по обязанности бываю в том доме.
Он попробовал улыбнуться, разглагольствовал явно зря, избегая взглядывать на Марья Ивановну, так и впившуюся черными загоревшимися глазками в длинные зачесы из толстого волоса на его затылке. Она недоверчиво усмехалась. Взгляд ее ползал по нем, ее ухо, казалось, висело где-то у его плеча, — от такой не скроешься. И она насмешливо подтвердила его опасения, запела тонко и лживо-нежно:
— Все, может быть, и боялись. Ай скарлатины, ай чего другого. Что это помягчели вы сердцем, подобрели? Ну, дай вам бог, пусть и к вам снизойдут.
Ему стало тошно от этой проницательной сладости.
VПерсючонок Багир, подросток лет пятнадцати, обычно дремавший на кухне около Степаниды, прибежал запыхавшись, с глазами, круглыми от изумления, что в жизни случилось происшествие, которое потребовало его вмешательства, кричал еще в передней:
— Михал! Михал! Контор пришел два армян. Заведучки просиль. Я туда ходил, он сказал: «Беги к заведучки».
В конторе Крейслер застал двух просителей. Один из них, молодой и, видимо, скучливый, одет был с претензией на дорожную элегантность, поглядывал невинно и вообще старался произвести впечатление туриста, походя больше на коммивояжера. Другой, постарше, много толще и плотнее, изумлял прежде всего такой черноволосой растительностью на лице, которой, казалось, если ее растворить, хватило бы окрасить целый пруд. Злокачественные волосы лезли из ушей, из ноздрей, из глаз, только около переносицы поблескивала чистая, смуглая кожа. Он встал и протянул волосатую, пухлую руку.
— Товарищ Крейслер?
Михаил Михайлович кивнул головой. Брюнет осклабился, обнажил зубы ровной чистоты. Крейслер невольно подумал: «Хороший материал пошел на этого мужика!» Посетитель вынул из портфеля бумагу.
«Областной хлопковый комитет предлагает вам выдать подателю сего, тов. Тер-Погосову, три имеющихся в вашем распоряжении конных аппарата-опрыскивателя типа „Вермореля“, предназначающихся Уездному коммунальному хозяйству…»
— Для чего это?
Тут вмешался франт:
— Это для нас. Коммунальное хозяйство, не имея канализации, очень нуждается в пополнении ассенизационного обоза. Опыт показал, что из аппаратов «Вермореля» выходят прекрасные…
— Бочки для обоза? — прервал Крейслер. — Позвольте, что же это делается? У нас саранча. Мы же с весны должны начать бороться с ней. Ведь это идиотизм отбирать оружие борьбы. Да где же Саранчовая организация? Им же голову оторвать надо!
— То-ва-рищ! — строго и раздельно произнес Тер-Погосов, повернув голову так, словно позировал медальеру. — Вы немножко забываетесь, товарищ. Выполняйте распоряжение вашего начальства, а что касается борьбы, — Саранчовая организация имеет свой план. Ввиду недостатка ядов на рынке опрыскиванье невозможно. Но мы можем залиться керосином, и туда обращено все внимание. Я, как член коллегии от Хлопкома… Я говорю это официально: саранчу будем сжигать особыми аппаратами. Ставится мастерская, целый завод. Привлечена частная инициатива.
— Почему же я, уполномоченный, узнаю обо всем этом из какой-то беседы?
Крейслер подошел к окну. Все как всегда. Ландшафт, истерзанный зимними дождями, как тронутое тлением мертвое лицо, глядел страшно и скучно. Толстая глинобитная стена окружала заводскую усадьбу; здесь строились, опасаясь нападения, дикого набега кочевников. Но в стене за время революции образовался пролом как раз под окном конторы, и теперь, когда налета можно было ждать каждый день, зачинить повреждение не хватало средств. Завод расположился на возвышенности. С холма открывался широкий вид на овальную долину, прорезанную шоссированной дорогой к станции Карасунь, через молоканское село Черноречье, красневшее крышами справа. Слева от шоссе начинались распаханные заводские поля, за ними стояли, — из окна, — словно мелкий перелесок, — чащи зараженного тростника, забившего реку, полного угрозы. Крейслер обернул к посетителям лицо, налитое злобой.
— Я подумаю. Вам придется обождать.
Тер-Погосов закашлялся. Франт поглядывал на Крейслера, поигрывая бровями с таким выражением: нам-де известно, чем вы разразитесь. Будете разоряться о преступности, бюрократизме, несвоевременности, — мы и не таких обламывали. Мало ли что, власть на местах кончается!
Но Крейслер неожиданно двумя-тремя шагами рванулся к Тер-Погосову, тот попытался встать и остался сидеть. Крейслер помедлил над ним одно мгновенье и вышел. Его лицо, огромное, рыжее, веснушчатое, еще висело в комнате. Небольшие зеленые глаза подернуло лиловым, толстый нос припух, губы искривились, на лбу выступил пот, на висках обозначились жилы, голова тряслась. Посетители избегали смотреть друг на друга. Тер-Погосов изучал собственный мандат, словно ища на бумаге только что капнувшую каплю крови. Тишина сгустилась до комариного писка, в ее пасмурной неподвижности трудно было пошевелиться. Неприязненное молчание незнакомого места предвещало засаду. Но эта неловкость непомерно затягивалась. Они постепенно смелели, начиная видеть неистребимые подробности учреждения: письменный стол, обитый клеенкой, два шкафа, за стеклами которых выстроились добротные, частновладельческие скоросшиватели, счеты, пресс-папье. И запах, запах конторы, пыльное воспоминание о написанных и истлевших бумагах, обо всех, кто здесь когда-нибудь бывал, он ободрял.
В дверь просунулась голова Багира.