Лев Правдин - Ответственность
Деревья, обступающие поляну со всех сторон, то появлялись, то исчезали при вздрагивающем свете догорающих костров. Похоже, будто они собираются напасть на самолет и никак не решаются. Так показалось Таисии Никитичне, пока она спускалась по алюминиевой лесенке.
А из-за деревьев очень решительно начали выскакивать ловкие, казавшиеся маленькими, люди. Они с молчаливой деловитостью бежали к самолету. Подбежав, очень скоро стали разгружать ящики и мешки, которые им привезли. Все ими делалось и бережно, и ловко, видно было, как эти люди хорошо знали свое дело и какая выучка, какая дисциплина ими двигала.
Тут Таисия Никитична увидела Бакшина. Она сразу догадалась, что это именно он. Как и все, он возник из темноты и, размашисто шагая по мокрой побуревшей траве, быстро приближался к самолету. Сразу видно — идет хозяин, командир. Ее командир, про которого говорили, что он никого не бережет, и прежде всего самого себя, и что он человек, убежденный в своем деле, для которого ему ничего не жаль.
Он, как показалось Таисии Никитичне, шел прямо на нее — большой, подтянутый, в распахнутом брезентовом плаще. Она никогда не робела перед начальством, но тут почему-то растерялась и, негодуя на себя за такое малодушие, проговорила:
— Прибыла в ваше распоряжение!
Против ее воли это получилось у нее очень вызывающе и поэтому, конечно, так глупо, что она совсем смешалась.
— Добро, добро, — ответил он, не обратив внимания на ее замешательство, и совсем не официально, а скорее по-хозяйски гостеприимно протянул ей руку.
У него была небольшая и очень мягкая ладонь, но рукопожатие оказалось таким подчиняющим, словно он вот так, сразу, без лишних слов, взял над ней полную власть. И хотя Таисия Никитична и без того знала, что он тут — единственная власть, которой она полностью подчинена, все же ей стало как-то не по себе, и она сказала:
— Я привыкла как в армии…
— У нас тоже как в армии. — Он повернулся и уже на ходу отдал распоряжение: — Разместитесь у радистки.
— Есть, — ответила Валя. — Идемте, доктор.
— Подождите, Валя, мне надо… — Таисия Никитична не успела еще и сама понять, что же ей надо сделать сейчас, как Валя уже все сообразила.
— Да вот, он тут, — проговорила она, — дожидается.
Она подтолкнула Таисию Никитичну в темноту под крыло самолета, как будто знала, где именно Ожгибесов будет ждать. Он и в самом деле стоял там, куда показала Валя.
Ожгибесов сразу же, как будто так и должно быть, взял ее руку и прижал к меховому отвороту своей куртки.
— Хорошо, все будет очень хорошо, — торопливо проговорила Таисия Никитична.
Он спросил:
— Что передать вашим?
— Ничего не надо. Я вчера написала им. Предупредила.
— Они где?
Узнав, куда эвакуировали ее мужа и сына, Ожгибесов сказал:
— Хорошо. Наши туда часто летают. А я сюда. Связь наладим, а может быть, и я полечу туда…
— Вот и хорошо, — повторила Таисия Никитична, — вот это очень хорошо было бы…
Она понимала, что говорит совсем не то, что надо, а что надо сказать, чтобы ему стало хорошо и он улетел успокоенный, не знала. Что сказать? Не может же она говорить о любви, если ее нет. Она еще посмеивалась по старой привычке, как тогда посмеивались все, над его почтительной влюбленностью. Ох, как давно это было! Тогда он был мальчик по сравнению с ней, взрослой женщиной, матерью семейства.
А если бы она любила, то нашла бы подходящие слова? А зачем слова? Когда любишь, тут уж не надо никаких слов для успокоения потрясенной души. Да и сама любовь исключает всякое спокойствие, даже если воспринимать ее с улыбкой. О-хо-хо, любовь под крылом самолета!
«Нам все простится». Это сказала Валя. Нет, какая же это любовь, которую потом надо прощать? А что он думает по этому поводу?
А он вряд ли способен был думать. Он стоял, боясь пошевелиться или просто пожать ее руку. Он только держал ее в своей горячей ладони и даже не смел дышать. И это все! Сейчас он улетит, и тогда там, на высоте в две тысячи метров, под этим крылом, уже больше ничего не будет, кроме пустоты, холодной и беспредельной. Как на каком-то «том свете». Ничего, только свист ветра и черная пустота. И ничего не может быть, потому что там нет человека со всеми его страстями. Ничего не останется, от того что так сжимает сердце. Ни чувств, ни переживаний, ни сомнений. Ничего, что сейчас кажется им важнее всего. И если сейчас, в эту самую последнюю минуту, ничего не сделать и ничего не сказать, то всему наступит конец, как на «том свете».
Ей так ощутимо представилась потусторонняя пустота, которая скоро должна наступить под этим крылом, что у нее от тоски сжались плечи и она смогла только проговорить:
— Не надо…
Он понял ее, оттого что думал о том же и так же, как и она.
— Да, — сказал он. — Мне надо.
И она все поняла: он сейчас улетит, и ему надо, чтобы с ним была его любовь, и ее любовь, — только тогда он не будет одинок в той черной пустоте. Ему надо. А ей? Этого Таисия Никитична не знала, и не было времени разобраться в своих взбаламученных мыслях.
— Милый мой… — не то вздохнула, не то простонала она.
— Ничего, ничего. — Он осмелел и погладил ее руку и потом ее ладонью погладил свою плохо выбритую щеку. Она не отняла руки.
Эта его внезапная смелость растрогала Таисию Никитичну. Никогда она не отличалась сентиментальностью, но сейчас ей захотелось, чтобы ее приласкали, сказали что-нибудь теплое и простое. И это в темноте, под крылом самолета, в немецком тылу? А что делать? Он сейчас улетит, и здесь, под крылом, уже совсем ничего не будет.
У двери самолета кто-то громко спросил:
— А Сашка где?
— Это вас зовут? — тихо, почему-то тревожно спросила Таисия Никитична.
— Нет. Мальчишка тут один. Уже не первый раз он так…
Он не договорил, не стал объяснять, что это за мальчишка и что с ним не впервые, так были дороги ему эти мгновения прощального молчания, которое он не хотел и не мог нарушить.
И снова позвали Сашку, теперь уже несколько голосов, и один из них, конечно, голос самого командира, коротко приказал:
— Найти немедленно!
И чей-то басовитый голос:
— Ну да, найдешь его…
А двое под крылом стояли, притихшие в напряженном молчании, понимая, как непрочно это их счастье и как непродолжительно. Да и счастье ли это?
— А где доктор? — спросил Бакшин.
— Теперь вас… — сказал он. — Это уж вас…
Она сама погладила его колючую щеку. Кто-то мягко тронул ее за плечо.
— Да, — тихо отозвалась она.
За спиной стояла Валя.
— Доктор, там раненых отправляют. Требуют вас.
— До свидания, Саша, милый.
Он поцеловал ее руку и сразу же исчез в темноте. Она вышла из-под крыла и направилась к двери, куда осторожно и ловко поднимали раненых.
ПЕРЕД РАССВЕТОМ
Таисия Никитична ожидала, что Бакшин вызовет ее немедленно, сразу же, как только вернется с аэродрома. Но прошла ночь, настало утро, а никто за ней не приходил.
Она встала и, не зажигая света, чтобы не потревожить Валю, оделась в темноте. Но сон девушки был так прочен, что не было слышно даже ее дыхания. Хлопнула дверь, она и тут не пошевелилась.
По мокрым ступенькам Таисия Никитична поднялась наверх, огляделась — и совсем напрасно, потому что стояла тьма непроглядная. Но потом оказалось, что кое-что все-таки можно рассмотреть; например, небо. Оно было чуть посветлее леса и земли, и по нему ползла какая-то волокнистая муть. И на земле проглянули серые пятна, похожие на куски той же беспросветной мути. Наверное, вода, болото.
Она сделала несколько шагов и остановилась. Очень неприятно идти, когда под ногами так податливо пружинят мох и мокрые листья и что-то чмокает и хлюпает. Под ногами должна быть твердая земля, тогда человеку спокойно. А тут определенно болото. Кисловатый, бражный запах осеннего леса и мокрых, только что опавших листьев.
Тоскливое и горькое похмелье после летнего разгула — вот что такое поздняя осень в сыром болотистом лесу. Такая межеумочная погода — ни осень, ни зима — может продолжаться очень долго, даже вплоть до будущей осени. Прибалтика.
И снова, как и в ту тоскливую минуту, когда она прощалась с Ожгибесовым под крылом самолета, ей сделалось необыкновенно тоскливо. Нет, даже еще больше, чем в ту минуту, тогда хоть поблизости были люди.
А совсем близко Ожгибесов, так близко, как никогда.
Лучше уж вернуться в землянку, там, по крайней мере, тепло и не так ощущается одиночество, состояние вообще-то для нее малознакомое. Очень редко она чувствовала себя одинокой — характер не тот, не подходящий для одиночества. Ее профессия приучила к действиям решительным и срочным, к действиям, за исход которых она одна принимала на себя всю ответственность. Самые отчаянные скептики, не верящие ни в какую медицину, относились к ней почтительно. Поэтому, наверное, ее отношения к окружающим всегда отличались прямотой. Она говорила то, что думала, и все это ценили, каждый по-своему, в меру своих сил и состояния здоровья. А это, в свою очередь, только повышало ее интерес к людям.



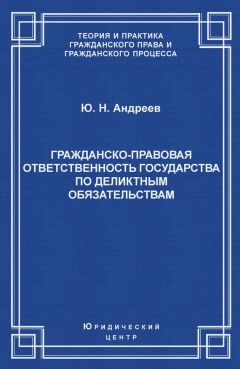
![Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/152078/152078.jpg)