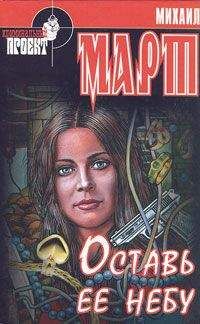Станислав Мелешин - Расстрелянный ветер
Зачерпнув ладонью горсть камушков, он бездумно разглядывал их и отдыхал, раскладывая по цвету в кучки, как маленький, тихо любовался ими. Или опрокидывался спиной на мягкие травы около старых замшелых ветел с тяжелыми ветвями и сквозь листву рассматривал синие осколки неба, белые дымки облаков и чувствовал себя счастливым человеком.
В этой умиротворенности у него на душе снова начинала теплиться одна радостная тайная надежда. Где-то рядом, на верху обрыва, жила Евдокия, и при каждом посещении этого берега, его не покидала мысль, что он когда-нибудь непременно ее увидит, хотя бы издали.
Его покой на берегу иногда все-таки нарушали нудные комары, шмыгающие бездомные собаки, бабий плач и матерная ругань казаков с огородов за плетнями, и еще то тревожное, когда он чувствовал, что кто-то все время подсматривает за ним. Тогда он вставал, раздевался и бросался в воду.
Он хорошо плавал с детства. Отец отвозил Василия далеко в озеро и бросал с лодки, как кутенка в воду, и чуть отплывал. Василий орал, захлебываясь, барахтался, шлепал по тугой воде ладонями, сучил ногами, проваливался в холод и всплывал. Отец протягивал весло, разрешал отдохнуть и поучал:
— Не ныряй. Не нажимай грудью на воду, будь сверху.
Он и держался на воде. Привык. И теперь любил плавать. В жаркие дни Василий сбрасывал с себя душные одежды и, оставшись в подштанниках, с разбегу бросался в глубину, всплывал и ловко, как рыба, рассекая воды сильным упругим телом, выносился на простор.
Он хорошо запомнил шумный бестолковый многолюдный день, когда спасал тонущих и снова увидел Евдокию.
Солнце тогда скрылось за тяжелым белым облаком, а он сидел просто так на берегу, гладил шершавой ладонью с мозолями поблекшую траву, смотрел в небеса, вспоминая приглушенный ресницами высверк лучистых обещающих глаз Евдокии Лаврентьевны, ее торопливые горячие слова: «Спасибо вам!» — когда помог ей сойти на землю с полным решетом рябины.
Василий судорожно глотнул воздух, крякнул, расправляя плечи, стараясь унять теплую трепетную дрожь в теле. Перед глазами маячили ее округлые большие груди под кофтой, он мысленно открывал их… Он находил их и на небе: они принимали форму облаков, колыхались, белели, становились упруже и весомее, и к ним тянулась его рука с ноющими мозолями.
В лицо хлестнул холодный, мокрый ветер, хлестнул в подбородок, словно из-под воды, и притих.
Он поискал глазами солнце в небесах и не нашел его, и встревожился: черно-дымная чугунная туча, закрыв небо, наползала на воду из-за песчаной косы.
Скоро по темному озеру начнут метаться большие волны с роскошной белой кисеей на гребнях, разгоняться на просторе и гулко бить о берег.
Василий ждал такие волны.
Он знал, что по бешеной воде гуляют июлем смерчи, громадной силой сгибая ветлы в три погибели, бухают, становясь навырост с высоким берегом, и, отрывая у берега глыбы тяжелой глины, ломают прибрежные плетни так, что они трещат, выстреливая палками в небо.
В такие веселые погоды хозяева подтягивают железными цепями лодки к приколу и закрывают их на замки, потяжельше, чем на амбарах.
Василий ойкнул, увидев лодку средь озера, которая, как утица, покачивалась из стороны в сторону.
Там, на лодке, как пить дать, таскали из воды рыбу, и он отметил про себя, что людей там двое и разглядел: мужик и баба, а вот кто — не уяснил.
Он стал напевно в ладоши кричать им: «Уто-о-пне-е-те, чер-ерти», — чтоб гребли к берегу, но под ветром, наверное, клев был хорош, и они, очарованные, не послушались его.
И вот началось…
Сначала по берегу от ветерочка стали расстилаться травы, потом, когда захлопала листва ветел и тополей, послышался утробный лай собак, хрипловатое гоготание гусей и надсадное кряканье уток, поднялась и закружилась воронками на плешинах пригорков вихревая пыль, и вдруг застукали друг о дружку, заметались кипы ветвей деревьев, словно стремясь напрочь оторваться от стволов, и начали кое-где предательски потрескивать плетни.
Вот и первая круговая ленивая волна дошлепнулась до берега и ушла под вторую, более высокую и тяжелую, а та докинула до лопушника белые шматки пены, а третья уже подымалась в рост человека и ухала, брошенная ветром на берег, смывая пыль с крапивы, что стояла за лопухами.
Небо и озеро потемнели оба разом, и тугой зверовой ветер смешал их вместе.
Берег уже погудывал от ударов воды и ветра. Василий следил за лодкой. Вот она, с мужиком и бабой, вдруг подпрыгнула к небу и рухнула вниз.
Перевернулась! Вода ходила ходуном, и над озером поднимался мутно-грязный столб, в котором садомно раскруживались сорванные с ветел и тополей ветви, пена и брызги, утяжеленные прибрежной пылью, и палки, выстрелившиеся из плетней.
Казак Оглоблин растерялся, вглядываясь в эту муть, и не находил глазами тех, кто только что был в лодке, — мужика и бабу.
«Ить погибли!» — решил он.
Он держался одной рукой за осклизлый железный корень ветлы, выгнутый из-под земли кренделем, а другой — за спасательную цепь чьей-то прикованной к берегу лодки. Лодку шатало, и руки его все время срывались. Он оглядел берег, надеясь увидеть кого, кто бы мог пойти к нему в товарищи: ведь надо же спасать, спасти этих тонущих, но берег будто вымер, только слышно было, как печально и резко скрипят колодезные журавли и полязгивают запоры наглухо закрытых ворот.
«Сейчас нужно плыть. Раздеться и плыть к ним! Кого-нибудь все-таки приволоку на берег», — спокойно подумал он и решился.
Согнувшись, стал под ветлу, сорвал с себя рубаху, скинул сапоги, освободился от шаровар и, оставшись в подштанниках, обхватил сразу зазябшие плечи руками, ярко вспомнив, как в солнечные дни прыгал в голубую водину-глубину и плавал там рыбой. Сейчас входить в волны было жутко.
Он выругался, как умел.
Тонущие голосили. Орал мужик, захлебывался, что орал — не разобрать. Звал на помощь пронзительный женский вой. Василий узнал этот голос: базлала Лукерья, соседка Евдокии.
Боком вошел в волну.
Вода накрыла его и понесла.
…Сбежалась вся станица, люди облепили берег и плетни, лезли в бьющиеся лодки, взбирались на деревья. Кто-то отвязывал лодку. Кто-то прокричал: «А вон к ним уже плывут!» Лодки отвязывать перестали, сгрудились в толпу, любопытствуя: к кому спасатель подплывет первому, кричали, советуя, взмахивая руками в сторону орущего мужика: «Держи правее, на косу правь, ядрена мать! Ныряй за ним!» — будто тонущей Лукерьи и не было.
…Выволакивая на песок спасенное полумертвое тело, Василий зябко глядел на берег, мельком — на толпу казаков, женщин, ребятни. Они стояли и смотрели на него молча, с укором и недоверием, стояли на безопасном берегу, сытые, притихшие. Он еще раз пробежал взглядом по лицам, ожидая, что кто-нибудь бросится ему помочь и увидел: ото всех отделилась Евдокия.
Он протащил спасенного еще шага два, перевернул на спину и взглянул в лицо: Лукерья. Юбка подвернулась, на молочных ляжках — красные полосы от песка, черная родинка на белом плече, мокрые спутанные волосы, как водоросли.
Евдокия, помогая уложить Лукерью на траву, шептала:
— Вася, Васенька, да как же ты это, миленький?!
Подошли несколько баб и захлопотали над спасенной.
Из толпы кричали:
— Давите на пузо ей, вода фонтаном выйдет. Кладите на плечо головой вниз.
Василий, выжимая подштанники, искал глазами свою одежду. Кто-то бросил ее под ноги. Он узнал Кривобокова.
Дымя самокруткой, просверливая всех карими глазами-пулями и разметывая свою седую есаульскую чистую бороду на обе стороны, он степенно и громко, так, чтобы было слышно всем, задал вопрос:
— Оглоблин! Слышь-ка! Что же ты… хм… сперва бабу вытянул? Что ж ты сперва мужика не спас?!
Все притихли. Вопрос был задан серьезный, хитрый, в лоб, и надо было ответить так, чтобы сбить со всех праздное любопытство, а с Кривобокова спесь. Василий был зол на всех, и у него уже вертелось слово: «Что же вас всех на второго-то не хватило?»
Неторопливо одевшись он посмотрел на уже отхоженную и мычавшую что-то Лукерью и спокойно сказал, глядя в настороженные пулевые глаза Кривобокова:
— Мужик… што?! Сам себя спасти был должен. А баба… она ведь детей нарожает! Вместо одного утопшего, она ой-ей-ей сколько сможет казаков подарить!
Ответил и пошел прочь, заметив, как поникла есаульская борода Кривобокова от казачьего смеха.
Вздохнулось легко, и в ушах все еще слышался нежный, мягкий шепот Евдокии: «Вася, Васенька, миленький…»
…Сегодня он просто лежал в траве, в лопухах, закинув руки под голову, и отдыхал, посматривая иногда по сторонам. Взгляд его натыкался на небо, ветви, воду, травы, на кромку обрыва, на дальнюю песчаную косу, до которой он любил доплывать, на солнечный пестрый свет, кружащийся по воде и зелени.