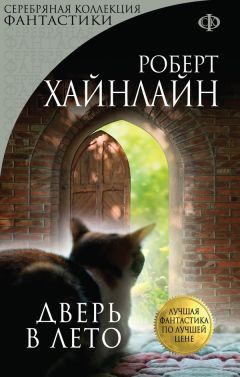Михаил Суетнов - Сапоги императора
— В лавочке нет только птичьего молока да рыбьего волоса!..
Так вот, я несмело вошел в лавку и остановился у прилавка. Лавочник на меня даже не взглянул. Потоптавшись, я робко попросил:
— Дядя Василий Иваныч, дай мне в долг чернила, перо, тетрадку и еще карандаш!
Широкое, заплывшее жиром лицо лавочника покраснело и стало одного цвета с бордовой рубахой.
— Ч-т-о-о? Отец на поминки выцыганил батман соли, конопляного масла и бутылку елея; мать выклянчила два фунта керосина, а теперь и сын пришел выманивать у меня товар в долг! Вы сговорились меня разорить?
— Дядя Василий Иваныч, я не обману! На рождественские дни, на святки, пойду по избам Христа славить, денежек заработаю и долг тебе отдам! Честное-пречестное слово, не обману!
Но лавочник пуще прежнего зашумел:
— В-о-о-н! Уходи, попрошайка! Ишь тут расцыганился!
Я выскочил из лавки. Брел домой и думал, как бы и чем лавочнику отомстить? И придумал: «Сам буду чернила делать! Налью их полное ведро и бесплатно ученикам отдам. Вот тогда ты, лавочник, будешь меня просить, чтобы чернила не делал, а я тоже ногой топну и крикну: «В-о-о-о-н! Уходи, попрошайка! Ишь тут расцыганился!»
Распалив себя этой мечтой, я прибежал. домой, наскреб в печной трубе сажи и развел ее в горячей воде. Этой мешаниной написал десятка два букв, но, когда чернила высохли, сажа с бумаги осыпалась!
От задуманного я не отступил и развел в кипятке лампадную сажу, черную до блеска, похожую по цвету на цвет сапог императора. Чернила из сажи мне понравились, и следующим утром я принёс их в школу полный горшок. Обрадованные даровщиной ученики налили моими чернилами свои чернильницы...
На первом же уроке мы перепачкали сажей парты, тетради и у самих остались белыми только зубы. Учительница выпачкала руки и белый воротничок платья. Больше держать нас в школе было нельзя, и Елизавета Александровна отпустила класс домой. Моему же отцу она прислала записку: «Твой сын придумал готовить чернила из лампадной сажи и наделил ими учеников. Они сами перемазались, парты и тетради перепачкали. Надо купить настоящих чернил!»
Отец прочитал записку и вздохнул:
— Написано справедливо, но из-за моей хворости да нашей беды — похорон — мы сильно изнуждались, а то бы чернил купили... Мишка, на дубовых листьях бывают прыщи-орешки, и вот я слыхал, будто сам царь Петр Великий из них чернила варил и державные бумаги писал. Попробуй, сынок, и ты свари чернила из дубовых орешков!
В тот же день я сходил в сенницу и набрал, нащипал с высушенных дубовых веников прыщей и чернила сварил. Они не пачкали, но были тусклыми, желтоватыми. Учительница их тоже забраковала. Так мне и не удалось лавочнику отомстить!
С того дня я стал с нетерпением ждать святок, и когда они наконец-то наступили, я вечером пошел славить. Зашел к мельнику Сапунову Петрухе. Переступил порог и несмело затянул: «Рождество твое, Христе, боже наш...» А Петруха сидел на широченной скамье, укрытой самотканой узорной дерюгой, и косил на меня глаза. У него все было квадратным: голова, борода, плечи, уши, живот и даже короткие толстые ноги, обутые в белые, с красными крапинками, теплые казанские валенки.
Когда я пропел молитву, Петруха повернулся ко мне и прищурил левый глаз:
— Тебе медведь на ухи не наступал?
Я схватился за, уши:
— Нет!
— Тогда у тебя ухи деревянные!
— Нет, они у меня из мяса...
— А почему же ты поешь не в склад, не в лад?
Я понял, что вожделенный пятак от меня уплывает, и заскулил:
— Дядя Петруха, я еще раз спою! Я буду громче...
Он согласился:
— Ну спой, а я еще раз послушаю!
Выслушав меня второй раз, Сапунов хмыкнул:
— Хм! Дятел всю жисть по дереву клювом стучит, но плотником не становится! Вот и ты не певун, а ревун. Иди, парень, ничего я тебе не дам: не за что!
Такая грубость меня ошеломила. Я изумленно смотрел на квадратного человека и не уходил. Он, видимо, подумал, что я ожидаю пятака, и прикрикнул:
— Что ты ко мне как короста пристал? Не доводи до греха, уходи!
Не помню, как я выбрался из дома на улицу, и только там опомнился. Ночь стояла тихая и морозная. Мне казалось, что крупные звезды меня жалеют и подмигивают: дескать, не падай духом! Меж изб сновали мальчишки-славельщики. Повстречались мне и соседи: Ефимка и Ванча Фадичкины.
— Мишка, это ты? Сколько тебе Петруха денег дал? Горсть насыпал?
Я утер рукавом зипуна замерзшие на ресницах слезы:
— Нисколько! Выгнал из избы. Сказал, что на мои деревянные уши медведь наступал...
Ефимка загорячился:
— Не мог выгнать! Ты же не песню — молитву пел, бога славил, а не фулиганил!
— Все равно выгнал...
Ванча вознегодовал:
— Петруха всегда скупердяй! Ладно, Мишка, не горюй, мы тебя выручим: возьми пятачок!
Я отказывался, но Ванча насильно вложил в мой карман пятачок.
— Бери, бери! А когда будут бить — беги. Мы сейчас с Ефимкой к Петрухе пойдем, и уж нас-то он не выгонит! А ты подожди здесь!
И они метнулись в дом мельника.
Ждал я их долго, сильно иззяб, но вот скрипнула избяная дверь, и братья Фадичкины сбежали с высокого крыльца.
— Мишка, ждешь? Нас Петруха про Христа спрашивал, а мы же не поповичи! Почему мы знаем, где Христос родился да где крестился... А денег, скупердяй, дал только копеечку. Жадюга, чтобы его летом жаба заплевала!
Вернулся я домой. Отец еще не спал и спросил:
— Где пропадал? Славил? По избам шлендал? Не стыдился христарадничать?
Мать будто рассерженная наседка напустилась на отца:
— Тебя какой комар укусил? Все ребятенки Христа славят, и наш сын не в поле обсевок!..
Отец рявкнул:
— А ты что, сварливая баба, раскудахталась? Я тебе давно сказал: не мути сыну голову! Пусть он растет под моим крылом.
Родители весь тот святочный вечер перекорялись, и только сон их успокоил.
Дня через два я опять пошел в лавочку Трусова. Ох и хитрец же он был! Догадался, что у меня есть деньги, и встретил ласково.
— За чернилами прибежал? А сколько у тебя капиталу? Пятак? Ну бери чернила!
Я взял товар и вышел. На крыльце, под ногами, увидел два затоптанных в грязноватый снег полтинника. Схватил их, крепко зажал в кулак и не знал, что с ними делать: матери отнести или Трусову отдать? Все-таки я вернулся в лавочку и положил монеты на стойку. У лавочника глаза загорелись:
— Мишутка, у тебя такие большие деньги?
И он лисой завертелся.
— Что тебе на них продать? Конфет, семечек, пряников, баранок?
— Это деньги не мои: я их сейчас на крыльце нашел...
— А-а-а, вот что! Тогда полтинники мои: я их из кармана выронил. Ладно, за твою честность возьми тетрадку и конфетку!
— Чужого не беру!
Я повернулся и пошел.
Дома я сказал матери о полтинниках. Она головой покачала:
— Вот, Мишка, теперь ты увидел: чем человек богаче, тем жаднее!
— Угу...
— Жадность-то богачу как червь сердце точит... Полтинники не лавочниковы. Нет! Кто-нибудь другой обронил. Ты, сынок, радуйся, что чужих денег не присвоил: душа и сердце остались чистыми, непорочными!
* * *
Если на рождественские праздники меня унизили, то после них еще и побили! Ну а случилось это вот так. На уроке у меня разболелась голова и учительница посоветовала:
— А ты из школы выйди и на свежем воздухе побудь: вся твоя хворь пройдет!
Большой мирской пруд был рядом. И я выбежал на лед. Долго по нему бегал, а вернее сказать, катался. Просто на лаптях. Разбежишься, скользишь, летишь словно на крыльях, а ветер в спину толкает, щеки колет и уши щиплет и режет!
Во время этого катанья боль из меня вместе с паром улетучилась. Стало легко, хорошо, весело, и я заторопился в школу. На крыльцо вбежал с песенкой:
На Новый год —
Поросячий хвост,
Пышку, лепешку,
Поросячью ножку!
Коридорное окно кто-то еще накануне разбил, и, чтобы не намело снегу, уборщица заткнула его мешковиной. А без окна стало темно, как в погребе. К тому же ученики на ногах нанесли много снега, и он пристыл к половицам, пол сделался скользким. Я покатился, но тут же поскользнулся и врезался головой во что-то широкое, мягкое, теплое. Оно, это широкое и мягкое, с шумом рухнуло на пол и потащило меня за собой. Я с испуга-то не сразу понял, что моя голова очутилась между чьими-то ножищами. И эти ножищи, словно клещи, зажали мою голову, и тут я услыхал гневный голос:
— Ах, разбойник! Ах, варнак! Я тебе покажу «поросячий хвост»!
Ноги-клешни все туже сжимали мою голову, и я, задыхаясь, просипел:
— Дяденька, я не нарочно в тебя головой-то! Поскользнулся и...
— Я тебе не дяденька, а отец духовный! Свя-щен-ник!