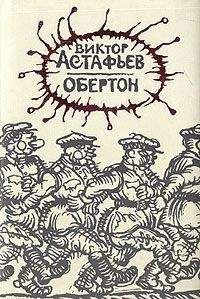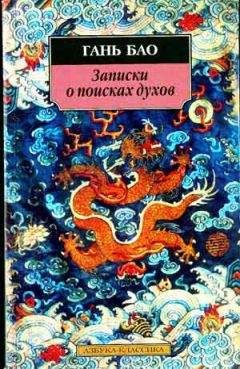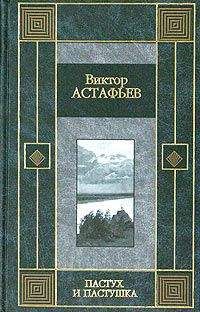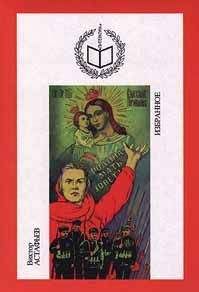Виктор Астафьев - Так хочется жить
Разгрузка на низком, тальником поросшем берегу, где карандашиком торчала и курилась железная труба, а вокруг нее так и этак большей частью недостроенные помещения, месиво комаров, заживо съедающих людей. Сразу же за трубой и меж строений — хилый, поврежденный лес, большей частью еловый да березовый, табуны голоухих ребятишек и собак, чернота уток на реке, даже на лужах, в озеринках, нехороший, удушливо-парной воздух «отдающей мерзлоты», от которого тошно, даже склизко в горле и в голосе, — вот и все первые впечатления.
Затем суета, работа, быстро надвинувшаяся осень, в середине сентября снегом порснувшая и к концу октября согнавшая все суда и всех птиц на юг. Разом грянула зима, морозная и ветреная. Убавила она половину переселенцев, смахнула их с берега, вымела в лесотундру, где день и ночь работала команда с кирками, ломами и лопатами, выбивая в стальной тверди мерзлоты широкие котлованы, глубиной аккурат такие, чтобы из них распластанно брошенный человек не высовывал носа. Старались в ямины поместить человеко-единиц как можно больше. Затем гусеницами тракторов приминали могилы, чтобы не только носы, но и скрюченные цингой руки и ноги не торчали из серебрящихся комков, сизых от раздавленной мерзлой гулубики.
Тут, в Заполярье, не до нежностей и удобств. Выжить бы.
Большая, основательная семья Хахалиных как-то быстро и незаметно изредилась. Умерли старики и с собой уманили самых уж размладших внучат. Когда отца Коляши под конвоем увезли еще дальше, на какие-то «важные» работы, будто сломилась матица в избе — не стало и матери. Все посыпалось и рухнуло до основания — цинга сразила. Остался Коляша на руках старшей сестры, уже здесь, в Заполярье, дважды сходившейся с мужиками, чтобы иметь «опору в жизни», и была та опора опорой иль не была, но дети от нее появлялись. В барачной беленой комнате однажды застрял «ирбованый» с наколками на руках, на груди и даже на заднице — он-то и приучил Коляшу к немудрящей музыке. В городке образовался детприемник, сестра взяла Коляшу за руку и отвела туда, сказав на прощанье, что ей бы со своими чадами как-то выжить и управиться.
Обжились они, поправились. «Ирбованый» оказался крутым работягой, крепко заколачивал на лесопогрузке, срубил дом у озера, но и пил, и жену поколачивал тоже крепенько. Коляша изредка заходил к родне и с удивлением обнаруживал подросших кулачат с порчеными зубами и вновь ползающих и ковыляющих малышей-племяшей вокруг стола — неистребимое отродье. «Ирбованый» был к Коляше, как, впрочем, и ко всем другим людям, приветлив, учил его играть на балалайке и на гармошке, давал ему рубль на конфеты и однажды подарил новенькую книгу, приказал ее прочесть, а потом рассказать содержание. «Ирбованый» был грамотный, читающий, совсем пропащий человек, он и Коляшу погубил, купив ему в подарок «Робинзона Крузо», — навсегда погрузивши парнишку в пучину такой завлекательной книжной жизни, из которой ни умная школа, ни вот эта непобедимая армия не могли его вынуть.
Старшину Растаскуева больше всего поражало и потрясало, что какой-то сопляк Хахалин в красном уголке читает газеты, листает журналы и знает наперечет десяток тех книг, что выставлены на полке, читает, конечно же, исключительно для демонстрации умственности и разложения посредством культуры армейского контингента, находящегося в составе вверенной ему роты. Скоро, однако, старшина Растаскуев достиг своей цели — никто, в том числе и зловредный грамотей Хахалин, к газетам и книгам не притрагивался, не пачкал и не рвал их — недосуг было.
А «ирбованый», в первые же месяцы войны взятый на фронт, слышно было, командовал ротой, получил звание Героя за сражение под Москвой. Во всяком разе, писала в письме старшая сестра, жить с ордой сделалось полегче, ей за мужа идет пособие, и сам он нет-нет и пришлет денег с фронта, один раз даже прислал посылку с мануфактурой — на ребятишек, прислал и вторую посылку, но в ней оказались только красивые книги, которые он приказал беречь до его возвращения.
Ну, что еще вспомнить? Где и чего наскрести такого, чтобы поменьше болели лицо и кости, и забылось бы все, что было и есть вокруг. Детдом? Там было много презанятного и интересного. Но ярче всего помнились морозные, «актированные» дни и ночи, когда в школу и на работу не идти. В те ночи от морозов цепенел заоконный мир, но небо шевелилось, двигалось, фантастически нагромождались на него торосы, груды и глыбы льда, каких-то мерцающих теней, хрустальных столбов и колонн, бросая иль спуская на землю тот леденяще-мерцающий свет, от которого земля казалась совсем пустынной, обезлюдевшей, нежилой. В такие ночи тепло от беспрерывно топящихся печей, уют детдомовского жилища, пусть и казенный, пусть и убогий, казался тем раем, о котором все время нравоучительно говорили старшие: «Государство заботится о вас, обеспечивает всем, государство и советская власть хотят, чтобы вы выросли истинными патриотами своей Родины, наш любимый и родной вождь все делает для того, чтобы вы не чувствовали себя сиротами…»
И не чувствовали! И не знали! И не ощущали! Жили и жили на свете беззаботно, весело, как и подобает жить в детстве. Ругались, конечно, дрались, отлынивали от уроков и всяких там разных занятий, когда надо сидеть смирно и слушать.
Все было. Все было. Но лучше всего и памятней, когда в самую большую, девчоночью комнату сбивалась братва, еще не дотянувшая годами до тех, что уже вовсю блатарили, и среди них начинающие преступники, гордившиеся своим ранним созреванием, — они не ломились в большую комнату, презирая малышню, им некогда было, они занимались серьезными делами: карманной тягой, бесплатным проникновением в кино, посещением рабочих общежитии, где всегда весело и вольно, если погода позволяла, шатались по городу, по магазинам, по столовым и всяким другим присутственным местам — любимое это занятие людей, привыкших к безделью, и просто неодолимая тяга звала, тянула нарождающийся класс неприкаянных людей в темные переулки, к бродяжничеству, к потаенным, рисковым делишкам. Детдома и разного рода приюты, как и школы наши, любят хвастаться, сколько выдали они стране героев, ученых, писателей, артистов, летчиков и капитанов, но общественность скромно умалчивает, сколько же воспитательные заведения дали родине убийц, воров, аферистов и просто шатучих, ни к чему не годных, никуда кроме тюрьмы не устремленных людишек.
…Сдвинув койки, повелев малому населению ложиться в ряд, Венка Окольников и Коляша Хахалин покрывали улегшихся сперва холодными простынями, затем одеялами и поверху уж всякой одеждой, какую удавалось раздобыть на вешалке. С дальнего боку залезал под укрытие и подтыкался Венка Окольников, ближе к печке-голландке и двери вкатывался, точнее, лепился на край кровати Коляша Хахалин. Какое-то время все лежали, надыхивая тепло и привыкая к положению средь лежачего общества. К Коляше, как только он проникал под одежду, залазила головой под мышку Туська Тараканова, мордочкой похожая на поросенка, и замирала в ожидании чуда — Коляшиных сказок.
— Ну, давай начинай, — взывали из темноты, тревожимой позарями.
Коляша, внимая голосу народа, начинал собирать в кучу все, что вычитал, увидел, на уроках услышал или сам придумал, — плел он всякую небылицу, мешая королевичей с царями, маршалов с рыцарями, мушкетеров с лейтенантами, медсестер с принцессами, принцесс с продавщицами. И притихшая в ночи, разомлевшая от тепла и его сказок, переполненная любовью ко всему доброму публика тихо отходила ко сну. Первой начинала похрюкивать под мышкой Коляши, мочить ее сладкой слюной Туська Тараканова, затем и остальные отлетали в детский, уютный сон. Напуганные, нервные дети и те, кто мочился под себя, — они боялись пустого коридора и полутемного, пропахшего мочой и карболкой туалета, — в сопровождении Венки или Коляши семенили в отхожее место, и их, поругивая, пускали обратно в нагретую постель. И снова раздавалось требовательное: «Дальше-то че?», — и, напрягая свою голову, Коляша давал и давал, под собственный голос постепенно расслабляясь и засыпая.
Но обязательно находились малый, чаще малая, при которой кто-то кого-то рубил, резал, были и такие, как Коляша, кто и расстрелы зрел. Эти засыпали долго, мучительно, бились во сне, стонали, вскрикивали — «наджабленный народ», — говорили про них и про себя спецпереселенцы.
Унялись все. Можно спать и сочинителю, но он еще какое-то время лежит, вслушиваясь в дыхание детей, в похуркивание Туськи, и смотрит в желобок рамы, которую вверху еще не достало, не запечатало снегом, чувствуя, ловя взглядом голубой свет, мерцающий, будто на экране немого кино, ощущая счастливую усталость хорошо поработавшего, людей умиротворившего, детей утешившего человека.
Вот это и были самые дорогие в его жизни часы и минуты, с этим ему жить, с этим терпеть все невзгоды и передолять беды. Остальное все, как у всех людей. Но, кстати, и было-то детдомовское содружество, ночная сказка не так уж и долго.