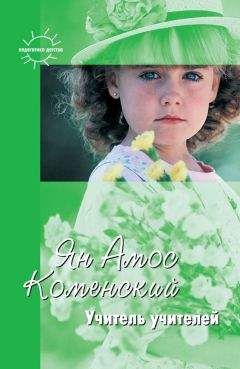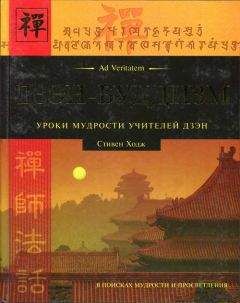Глеб Горышин - Любовь к литературе
Правда, грамоте я был изрядно научен дома. Моя мама терпеть не могла помарок в родном языке, пусть даже в домашних беседах и детских шалостях. Меня одергивали, если я говорил вместо «нет» — «нету», отчитывали за «евонный» и «ихний» вместо «его» и «их». Я рано узнал, что нельзя употреблять в одном предложении два подлежащих: «Лев — он царь зверей» — так нельзя, против правил, неблагозвучно. Надо: «Лев — царь зверей». Нельзя сказать: «Очень неплохо», надо сказать «Хорошо». И многое другое.
Но почему-то литература в школе шла у меня ни шатко ни валко — до девятого класса, до прихода к нам Бориса Борисовича Стаха. Письменные задания по литературе, сочинения-изложения я обыкновенно перекатывал (переставляя слова) с учебника, поскольку мне казалось, что там, в учебнике, написано толковее, нежели я начну городить от себя. За сочинения-изложения чаще всего мне ставилась тройка — за грамотность, при полной несамостоятельности.
Борис Борисович Стах вошел к нам в класс в офицерском габардиновом кителе, с двумя рядами орденских планок, заговорил с нами, как со взрослыми людьми, о чем-то таком, никогда нами не слыханном. Новый учитель литературы, я хорошо это помню, появился в конце учебного года. На дворе стояла весна. На первом своем уроке новый учитель заговорил о войне. И о весне. Он принес с собою только что вышедший роман Олеся Гончара «Весна в Праге», прочел нам сколько-то страниц. У него был глуховатый, откуда-то из груди выходящий наружу голос и какое-то особенное лицо, непохожее на лица других наших наставников: выбритые до синевы впалые щеки, не выпирающий, но заметный подбородок, с лощиной посередине; глаза серые, проницательные, малость печальные и не злые; надо всем лицом, составляя главную его часть, простирался высокий, как говорится, сократовский лоб. У нового учителя литературы, мы сразу заметили это, было умное лицо.
Учитель прочел нам отрывок из романа Олеся Гончара «Весна в Праге», положил книгу на стол, принялся расхаживать перед нами, ладно скроенный, крепко сшитый, совершенно от нас, от нашего разгильдяйства и шалопайства не зависящий, сам по себе, — стал нам рассказывать про войну, про ту весну в Праге, которую он пронес на своих плечах, запечатлел в своей душе. Рассказчик был серьезен, чувств своих не выдавал ни голосом, ни улыбкой. Речь его была абсолютно, «по-петербургски», правильна, мы такой и не слыхивали. Борис Борисович говорил о счастье быть освободителем и о счастье быть освобожденным. Как одно счастье находит другое, как они соединяются, — и тогда наступает весна, не просто время года, а весна человечества. Еще вчера раскаленные боем танки сегодня увиты цветами сирени, тихо движутся как ладьи, по волнам всеобщего восторга, несут на броне нимб Победы…
Борис Борисович нам объяснял, что значит чувство Победы. Как может книга запечатлеть в себе миг ликующего единства многих тысяч людей. Он говорил об этом простыми словами. Правду того, что он нам говорил, удостоверяли два ряда орденских планок. Мы их умели читать: правым крайним был орден Красного Знамени.
Потом я прочел «Весну в Праге» Олеся Гончара — книгу, не заданную по литературе. Я прочел ее для себя. Я вообще был начитанный мальчик. Не скажу, чтоб меня потряс роман Гончара. Но впервые в жизни я читал не о чем-то таком, чего никогда не бывало и не будет со мной; я находил в книжных словах нечто такое, чем жил сам: войну и весну. Слова становились живыми. Запах сирени в Праге в майские дни Победы был тот же самый, что нынче у нас, на Марсовом поле. Учитель литературы помог мне прочесть эту книгу, проникнуть в жизнь слов, пережить написанное в книге, как собственное, мое…
Спасибо учителю словесности!
Потом Борис Борисович Стах создаст в нашей школе — для старшеклассников — кружок любителей литературы. Уроки уроками, но литературу стоит еще полюбить. Да, полюбить! Меня назначат секретарем кружка, доверят ведение протоколов заседаний. Я еще не любитель литературы, но какие-то проблески замечены во мне учителем. Ну что же, я буду писать протокол, с каким-то непонятным мне трепетом, с несвойственным мне усердием занесу на бумагу — своими словами (это важно — своими!) — высказываемые кем-то суждения, мысли, буду оспаривать эти мысли и что-то домысливать от себя. Протокол заседания — тоже литературный жанр, он отмечен знаком личности протоколиста, ежели таковая личность проклюнулась в нем. К устной полемике с кем-либо я еще не готов, я еще мальчик, подросток, но я пишу протокол. Записывать чужие мысли мне скучно. Мне хочется написать мои мысли. А как интересно к тому же сделать словесный набросок-портрет того или другого члена кружка, любителя литературы, вдруг загореться его искренностью или поймать на фальши. Итак, я учусь писать, складывать одно слово к другому таким образом, чтобы подспудное мое «я», угнетенное, заторможенное отроческой робостью, наконец нашло выход себе — в словах.
Учитель литературы и русского языка учил меня читать книги, и еще он учил меня писать, мало-помалу вводил в магический мир слов, где ни одно слово не произносится, то есть не наносится на бумагу просто так, без смысла, без толку. Написанные твоею рукою слова могут вдруг пригодиться тебе, как дружки-товарищи, как добрая твоя бабушка, как не найденная еще тобой, но уже очень желанная подружка, как учитель, как табель успеваемости, где выставлены оценки по всем дисциплинам. И — слово за слово — я начал писать мой дневник: вначале прожить день, как проживется: кому-то солгать, перед кем-то струсить, кого-то обидеть, чего-то не доделать; можно даже и понравиться себе, хотя в отрочестве это редко бывает. Потом взять в руки перо, раскрыть тетрадку — и взвесить прожитый день, разобраться в себе: кто же ты есть-то на самом деле, какая тебе цена. И жестоко (но не больно) себя осудить.
Заслужил, так и похвалить, обязательно пожалеть. И что-то вдруг прорвется в тебе, как вскрытый фурункул, облегчающее тепло разольется по жилочкам. Чем больше напишешь в тетрадке, тем больше устанешь. Как подмечено мудрецами еще в глубокую старину, не устанешь на этом свете, не отдохнешь и на том.
В отрочестве, да и в каждом возрасте, больше всего человека томит ненатруженность, неусталость. От нее и происходят моральные вывихи, звериные прыжки — от праздности мышц, от простоя мыслительного аппарата.
Придет время, и учитель словесности Борис Борисович Стах, человек с умным лицом, со лбом мыслителя, с боевыми орденами на кителе цвета хаки (вскоре он сменит китель на штатский костюм и ордена тоже снимет), однажды мне скажет, сохраняя на лице всегда присущее ему выражение крайней серьезности этого момента, как и всякого другого момента переживаемой нами жизни:
— Вы написали действительно замечательную вещь, талантливую вещь…
Впервые заслуженная похвала от высокочтимого мною учителя прольется елеем мне на душу. Все мое существо переполнится чем-то дурманящим, сладостным, духоподъемным, словно газом гелием: еще немножко — и улечу.
Это я написал сочинение на заданную учителем свободную тему: «За что я люблю мой город». Прежде чем написать, долго думал, за что я его люблю. То есть вначале спросил у себя: «Что такое любовь?» Наш город — всеми любимый, это общеизвестно. Но есть ли в общеизвестной любви-любовании нечто такое, мое? Где кончается общая и начинается моя — единственная — любовь к моему городу? Я ходил по истоптанным до меня миллионами ног набережным, мостам, проспектам, переулкам, следил за собою: в каком месте вдруг вздрогнет душа? Почему? Набережные, мосты, проспекты и переулки сами по себе, конечно, были хороши, но никакого вздрагивания в душе не происходило до тех пор, пока не включилась память…
Вот здесь я шел когда-то, во мраке затемненного, забывшего об уличном свете города, и вдруг… Вдруг загорелись лампочки на столбах. Их свет был робкий, прищуренный, просыпающийся. Но душа моя затрепыхалась. Такую спазму восторга переживают жители Севера, после долгой полярной ночи встретив первый солнечный луч. Пятнадцатого октября 1944 года в нашем городе сняли затемнение. Вот отсюда, с этого места я вдруг увидел желтеющие липы на бульваре, гранитный парапет над неспокойной черной водой, лица домов, измученные войной и просветлевшие, шпили и купола, далеко на все стороны разбегающиеся приветные огоньки вдруг ожившего города. И запомнил. Это осталось со мною. Это — мое.
…Вот здесь, на этом проспекте, стесненный в толпе, у которой, казалось, одно на всех жарко бьющееся сердце, я видел, как шли через город наши войска весной 1945 года: безмерно счастливые, усталые и загорелые, пропыленные лица солдат, отрочески-ясноглазые улыбки лейтенантов — и цветы, цветы, цветы, букеты сирени на головы, на плечи наших спасителей.
…На этой площади я праздновал праздник Победы, вбирал в себя гром салюта, всполохи ракет, коловращение тысяч людей, соединенных одним восторгом. И каменный столп посередине площади, поставленный в честь другой победы, но все равно — Победы… Какой-то — сам по себе и вместе со всеми — гражданин кидает изо всех сил кверху шапку, выкрикивает что есть мочи одну-единственную фразу, вместившую в себя все: «Да здравствует наша Советская Революция!»