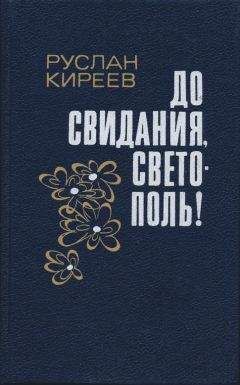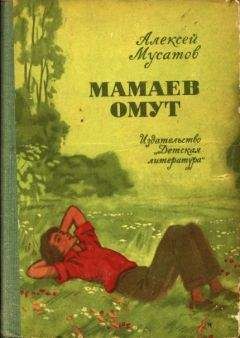Руслан Киреев - Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы.
Рукавицы отсырели — тонкая, непрактичная материя. Глянув на четырехугольный выем люка — нет ли стропа? — Рогов стянул рукавицы. Казалось, и руки тоже отсырели — пальцы красные и перетянуты, как сардельки. Стармех слабо пошевелил ими. Скверно, когда сыреют рукавицы, а ведь у него новые, матросу же на весь рейс лишь две пары дают. Экономия!
В четырехугольнике синело небо, и казалось, что далеко оно только отсюда, из трюма, а от палубы близко, потому что и палуба далеко, если глядеть, задрав голову, из этой. промозглой ямы, освещенной средь тропического дня жёлтым электричеством. Уже шесть скоро, а там пекло ещё, в шортах работают. Тело успокаивалось и стыло.
Надвинулась тень, опережая строп, но он сейчас же догнал её, покачался, примериваясь. Рогов следил. Это только со стороны просто: поднять, перенести, опустить— только со стороны, когда же сам за лебёдкой, сложнее все. Под ладонью — полированная теплая округлость рычага, стронешь — и побежит трос, но строп черт–те где от тебя, грузно покачивается себе на весу — попробуй, просунь его в отверстие, которое, кажется, одного размера с ним, если не меньше.
И все‑таки славная эта штука—лебёдка. Вначале, когда строп ещё на промысловом судне, в брюхе его — свободно провисают твои тросы, а подымает и делает все тамошний лебёдчик, но ты уже на стреме: не упустить момент, вовремя перехватить плывущие к тебе полторы тонны. Здесь, на перехвате, между двумя лебёдками, когда та отдала уже, а эта ещё не взяла или, напротив, взяла слишком резко, дёрнула, чаще всего и рассыпаются стропы — в море между бортами летят коробки со свежемороженой. Тут глаз нужен. Ещё та лебёдка несет, а ты уже исподволь принимаешь на себя часть тяжести (не дёргая — исподволь), потом больше принимаешь и, наконец, все. Тросы промысловой лебёдки провисают, выполнив свое — работаешь сам. Несешь к точке, но останавливаешь заблаговременно, за миг до того, как строп отверстие накрыл, пружинишь рычаг— майнаешь. Без паузы перевести из горизонтали в вертикаль, просунуть, не примериваясь, — в этом искусство. Интересно и не уставая работал на лебёдке Рогов, но после неловко было перед остальными, кто тяжело вываливался из трюма. Ведь не после отдыха ныряли в трюм на три с половиной часа, а отбарабанив вахту — механики, штурмана, электрики. Для него же подвахта (когда на лебёдке) вроде развлечения.
Строп застилал свет, покачивался, приноравливаясь.
— Давай, — процедил Осипенко, запрокинув прыщавое личико. — Телишься! —Издевался снизу над не–видимым, далёким — на солнце и на воле — лебёдчиком.
Володька Шаталин, развалясь, тоже поиздевался — сквозь усики на лоснящемся лице:
— Как в бабу все равно.
Наверху Мыкин работал — в рейс лебёдчиком пошел, аттестованный, и опыта больше, а он, стармех, ловчее за лебёдкой. Язвительные стрелы в Мыкина были лестны Рогову, но скрывал, непричастно помалкивал. Шаталин проговорил с ленцой и ухмылочкой:
— Деда вон надо на лебёдку. — И посмотрел на стармеха скошенными нагловатыми глазами.
Рогов вспомнил напряженные улыбки, когда спустился, отдуваясь, и объявил: подвахта прибыла. Нет, не это имел в виду Володька Шаталин, но глаза и поза были запанибратскими, — и это стармеху не понравилось.
Строп просунулся, поплыл, и чем ниже, тем больше в трюм пускал дневного света. Герасько поправил тележку, руку поднял, объявляя готовность. Похмочь встал Егорычев — рябой и уже в летах матрос, за тридцать. Герасько гаркнул предостерегающе, и строп замер в полуметре, покачиваясь. Вдвоём удерживали, направляя на тележку. Остальные тоже поднялись. Рогов натягивал рукавицы.
— Майна! — крикнул Герасько и двумя руками, напрягшись, потянул вниз — чтобы не раскачало, затем ещё крикнул, нетерпеливей и грохмче, но надобности в этом втором крике не было: строп уже сдвинулся. Вышло неожиданно, и Герасько с Егорычевым не успели: строп косо лёг. Пришлось вирать и класть по новой. Рогов опять подумал лестно для себя о Мыкине, но тотчас оборвал себя: он‑то четыре часа в сутки лебедничал, а Мыкин — восемь через восемь: восемь — работа, восемь — отдых, восемь — работа, восемь— отдых, и так весь промысел и все рейсы — какая уж тут охотка!
Герасько вывел крюк, подцепил порожнюю платформу и крикнул вверх, отпуская. Подождали, пока платформа уйдет, и сомкнулись у стропа. Был он больше предыдущих: коробок шестьдесят, по две тонны — не стронуть с места. А тут ещё Рогов — толстяк, медведь неуклюжий! — втиснулся между Егорычевым и Осипенко, так что всем трошм было несподручно. Ге–расько заметил и движением руки перевел стармеха на другую сторону — к Володьке Шатилину. Стармех подчинился торопливо и виновато — как мальчик, налег вместе со всеми, и тут поднатужившийся Шатилин испустил от напряжения звук. Крякнул в удовольствии, и все засмеялись, и взглянули на него, а затем искоса, с неловкостью — на стармеха. Или почудилось Рогову? Он тоже старательно засмеялся, а лицо погорячело, расползлось блином, и все наливалось, наливалось, как ни сопротивлялся он, стыдливой кровью.
— От усердия! — браво прокомментировал он: доказать спешил, что ничуть не шокирован — не баба ведь, но плохо и лишне чувствовал себя и совестно за то, что им всем сейчас нехорошо перед ним, пожилым человеком, старшим механиком.
Тележка стронулась, пошла по рельсам, все меньше усилия требуя, потом совсем без усилия, и, наконец, когда Герасько скомандовал, усилие понадобилось обратное— на тормоз. Вцепившись, удержали. Герасько быстро стал ослаблять перевязь, другие ждали.
Стармех хмурился. Разве это дело: в наше время, когда едва ли не на каждой шлюпке — локатор, вручную ворочать эти замороженные булыжники? Семь тысяч тонн припрут на берег, и все, до единого килограмма, на матросских плечах перетаскано. А ведь сколько говорят о пакетных. перевозках, когда автокара подхватывает строп целиком, отвозит и ставит, а в порту— опять автокара. Сейчас уже Рогов на себя досадовал: упустил, не выбил кары, хотя база получила несколько. Ему б дали — Рогову нельзя отказать (Рогов, не кто‑нибудь!) и потому‑то, что нельзя отказать, давить не стал — есть ведь и другие суда. Чистеньким остался, высокосознательным (Рогов, не кто‑нибудь!), зато его матросы спину гнут, а у других — кары. Стармех классифицировал это, как предательство. Коли ты старший механик транспортного рефрижератора «Памир» — будь добр, думай о «Памире» сперва, а потом уж о других судах — во вторую очередь. И о себе, о своей совести — или что там остановило тебя? — тоже во вторую.
Выволок, поднапрягшись, коробку с верхнего ряда, понес… Но ведь кроме «Памира» и впрямь есть другие суда, а кар — меньше десятка на всю базу. Четыре трюма у них — четыре кары, стало быть, и запасная одна. Пять. Пять из десяти. Но почему нам, а не другому кораблю?
Трудно было думать о таких вещах и не любил стармех. Куда проще, когда дело с машиной имеешь, там нет «за» и «против», там открыто все и для Рогова ясно.
Ещё не все повыбрали с тележки, а в люке уже — новый строп. На этот раз лебёдчик опустил аккуратно. Капитан на палубе? Не успели и половину расходовать, как нависли очередные полторы тонны. Теперь уже было не до ритма: когда с грузом — шагом, назад же, к тележке, даже не бегом, а падали будто. Стармех не отставал, пот скатывался по дрожащим, как желе, щекам. Схватить, отнести, положить, бегом за новой. Схватить, отнести, положить… А вверху маячит уже новый строп — над душой стоит, и видишь его не глядя, телом угадываешь, спиной, деревенеющими мышцами. «Последний», — всякий раз надеялся Рогов, потому что чувствовал: невмочь ему больше, потому что знал: там ведь тоже не железные — © трюмах «Альбатроса», где стропы эти рождаются. Но ошибался: ещё нижний ряд не тронут, а уже нависает, затемняя четырехугольник неба, очередная полуторатонная громада. И в себе ошибался: мог, хотя сердце, раздувшись, бухало теперь совсем близко от замороженной глыбы, прямо в нее, в холодный картон, и руки напоминали лебёдку: где‑то внутри нажимаешь на что‑то, и они, далёкие от тебя и чужие, вдруг подчиняются. На секунду он потерял даже усталость — такой неправдоподобной показалась вдруг эта жёсткая согласованность.
Когда наконец очередной строп не появился, хотя тележка была пуста, откатана и приготовлена — сели не сразу. Ждали: то ли перекур на «Альбатросе» и им тоже можно подышать, то ли просто задержка. Если задержка, лучше перестоять минуту, чем, едва расположившись и настроив тело на отдых, снова вскидывать его. Но то был перекур. На фоне синего неба, уже по–вечернему густеющего, высунулась женская голова в белом—счетчица с «Альбатроса». Крикнула и, хотя слов не разобрать, ясно было, что не стармех же нужен ей и не Володька Шатилин, а звеньевой. Герасько взял свои записи и полез наверх —сверять цифры. Остальные повалились на тару. Там, в глубине, тары было больше, целая гора — как угодно располагайся, но Рогов опустился с краю. Ноги дрожали; он чувствовал это, хотя, если смотреть, они были неподвижны, мертвы даже: развалились в разные стороны.