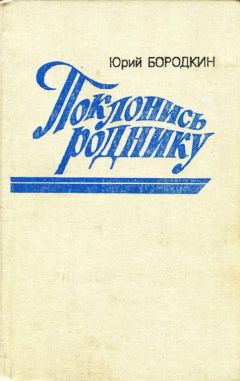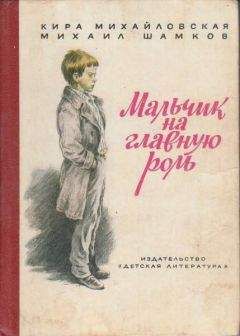Мария Глушко - Год активного солнца
Убрать бы сейчас здесь все, пройти пылесосом, но только подумала об этом, сразу потяжелели руки. Зачем? Она поняла вдруг, что не может больше, не выдержит, что ненавидит этот пустой дом, и каждую вещь, и себя в этом доме. И уйти некуда, не к кому. Она увидела вокруг себя пустоту. Хоть бы один друг! А ведь когда-то были друзья, ходили друг к другу в гости, бегали занять до зарплаты десятку… Это было давно, сейчас она в гости не ходит, деньги не занимает. И к ней не ходят.
Куда все девалось?
Встречались на улице, в театре, в парке. Разговаривали, шутили, вспоминали. Она приглашала, обещали заходить. Но не заходили, и она забывала о них.
Друзья — один за другим — отпадали, деликатно расступались перед ней, пока она шагала по своим ступеням жизни. А она даже не заметила этого.
Проклятый город, в котором — ни одного друга! Уехать, что ли? Но куда?
Она сжала виски: что со мной? Стало вдруг жалко всех — умершую мать, Ирину, мужа… Вспомнила Североволжск, где прошло детство, юность. Вспомнила Лидию Чекалину. Обрадовалась: есть родной город, есть там родная душа — Лидка, Лидка! Для тебя-то я не начальница, для тебя я все та же упрямая Кирка («Ты не Кирка, ты Кирка!»), тебя можно обнять, заплакать, стать старой и слабой…
Кира Сергеевна взглянула на часы, быстро пошла к телефону. Увидела себя в зеркале — старый халат, непричесанная, с отросшей сединой, серое лицо с опущенными щеками…
Только бы он не ушел в исполком.
— Игнат, это я. Слава богу, ты дома.
— Что случилось?
Уехать, уехать! И оттуда, издалека, из прошлого взглянуть на сегодняшний день!
Она передохнула.
— Игнат, мне нужен отпуск.
— Что, прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
— А что случилось?
— Игнат, преамбулы не будет.
Он сказал там кому-то «погоди». Потом — ей:
— Как снег на голову. Зайди, поговорим…
Она испугалась, что сейчас закричит.
— Игнат, если я прошу, значит, мне очень нужно!
Он молчал. Она слышала, как сопит он в трубку.
— Ну, закинь заявление…
— Спасибо!
Он вздохнул:
— С тобой не соскучишься.
Она постояла в прихожей, соображая, что сейчас сделать. Потом достала на антресолях чемодан, открыла шкаф. Срывала с вешалки свои вещи, кидала в чемодан.
38
Снилось детство, дедушкина деревня, куда привозили ее родители. Журчит ручей, обтекает камешки, соломинки кружатся в нем, застревают на мелководье, она ладошкой углубляет русло, холодная вода обжигает пальцы.
Дед говорил: начинается ручей с родника и бежит прямо к Волге.
Заросшая тропинка вьется вдоль ручья, по ней красная плоская букашка — солдатик — трудно пробирается в путаных плетях травы. Для букашки трава — целый лес, и маленькая Кира расчищает солдатику путь, рвет траву, убирает стебли и камни. А солдатик почему-то не хочет ползти по расчищенному, забирает в сторону, вползает на лист подорожника и исчезает в зарослях травы. У него — своя дорога.
Девочка хочет пить, встает на коленки, черпает ладонями воду, несет к губам, но вода убегает сквозь пальцы, и ладони по-прежнему сухие.
Кира Сергеевна видит себя, маленькую, со стороны — худенькие лопатки, колени в царапинах, сбитый локоть, — но этого не может быть, человек не может видеть себя со стороны, наверно, это не я, а Ленка. Хочет крикнуть: «Не упади, вода в ручье холодная!» — но голоса нет, только шепот, Ленка не слышит. Кира Сергеевна опять силится крикнуть и просыпается. Это не ручей журчит — колеса стучат ритмично и четко. Но иногда вагон словно сбивается с ноги, ломается ритм, колеса торопятся, стучат вразнобой и опять пристраиваются к четкому ритму.
В рамке вагонного окна менялись, отлетали назад движущиеся картины: замершие в инее деревья, провода, тонко перечеркивающие небо, белые чашечки изоляторов на столбах — как елочные украшения, стога соломы с опавшими боками… Кира Сергеевна вспомнила, как летом вот так же ехала с семинара, в рамку окна вплывали совсем другие картины, а она не могла уснуть от мысли, что уже завтра будет дома и увидит всех…
Это было очень давно, совсем в другой жизни — это было еще «до». И опять ее мучило, что не знает она точно того рубежа, на котором разломилась жизнь. Может быть, это было уже «после».
За окном тускло светились серые рельсы, сплетались, уходили под колеса и опять выползали, расплетались в длинную ровную колею с темными поперечинами-шпалами. Как будто бесконечная лестница упала на землю.
«Короче говоря, ты хочешь, чтобы я ушел?» Ты и так ушел. И Ирина ушла — раньше, чем переехала на другую квартиру.
Резко тряхнуло вагон, дверь купе сдвинулась, Кира Сергеевна встала, закрыла ее. В зеркале увидела свое серое, незнакомое лицо, волосы с отросшей от корней сединой. Измельчавшие черты, складки на желтой шее, мятые щеки — черты старости. Она почувствовала себя усталой, от этой усталости нельзя отдохнуть, потому что это — усталость души, она навсегда.
Почему у меня нет ещё детей? Возможно, кто-нибудь из них стал бы мне другом.
Она поняла — ей показалось, что поняла, — почему ушла Ирина. Моя дочь меня не уважает. Как она сказала тогда? «Самое неприличное — жить ради приличия». Можно ли уважать мать, которая построила свою жизнь на лжи? Примирилась — ради приличия — с «другой женщиной». Ходит с гордо поднятой головой… Пытается учить свою дочь праведной жизни…
Да разве я знала? Почему тогда не сказала ей правду? Почему не заплакала перед ней? Тоже ради приличия?
Нет. Я хотела сберечь ей отца. Нельзя, чтобы в ее глазах во всем был виноват он один. И плачущей она меня не увидит. И никто не увидит.
Сейчас она жалела, что сразу же не объяснилась с мужем, не потребовала ответа на свой вопрос: когда это случилось и почему? Знать — всегда лучше, чем не знать. Изменила своему правилу — идти неприятностям навстречу. По прямой, по кратчайшему расстоянию между двумя точками.
Но так бывает только на плоскости. В жизни кратчайший путь — не самый прямой и не самый верный.
Она опять увидела в зеркале свое маленькое, будто сведенное судорогой лицо и удивилась, что стала похожей на мать. Опять кольнуло запоздалое чувство утраты, как будто мать умерла только вчера.
Кира Сергеевна вспомнила детство, Североволжск — почему-то зимний — заметенные снегом покатые улицы, сбегавшие к Волге, деревянный двухэтажный дом, запах старинных книг и вещей, уткнувшуюся в тетради мать с маленьким тонким лицом. Такое лицо у нее стало после гибели отца, таким осталось на всю жизнь.
Мать до конца дней тосковала по Североволжску и все собиралась съездить туда, да не пришлось.
И Киру Сергеевну первые годы тянуло туда, часто снились родные улицы и дом, в котором прошло детство, юность. Сейчас ей казалось, что только там она и была счастлива.
Не верилось, что всего лишь ночь отделяет ее от встречи с городом детства. Приедет, пройдет по знакомым улицам — обязательно одна, — постоит у родного дома — бывшего родного. И будет плакать, плакать… Там можно, там никто меня не знает.
В последний раз приезжала на встречу выпускников школы — давно это было, в пору молодости, и тогда бродила по знакомым улицам, стояла у своего дома, а плакать не хотелось. Плакать о прошлом — удел стариков.
Зачем уехала оттуда? Может быть, там моя жизнь сложилась бы иначе? Не взошла бы я по «ступеням» в сегодняшний свой печальный день? Но тут же она подумала: там было бы то же самое. Дело не в месте, где живет человек, дело в самом человеке.
Она попыталась представить себя в другой жизни. И не смогла. Да, везде было бы то же самое. И слава богу.
За окном уже померкло небо, тени бежали по белым от снега откосам, жирно отблескивали на шпалах пятна мазута. Пахло теплой угольной пылью и влажным бельем.
Кира Сергеевна сидела и все вспоминала — школу, институт, Лидию Чекалину, которая тогда была Синицыной, как девчонками плавали на Зеленый остров за ежевикой и смеялись над старшим Лидиным братом Олегом, который в свои шестнадцать не умел плавать и боялся воды… И как в пионерлагере она обидела Лидию, кажется, даже ударила… Лидия ушла в лес, и все искали ее, не могли найти. Вечером Кира свалилась с температурой — заболела ангиной, одна лежала в изоляторе. Лидия пришла с заплаканными глазами, принесла полевые цветы. Положила на подушку букетик, сказала: «Не бойся, ты скоро поправишься». А Кира отвернулась к стене тогда и заплакала от стыда и раскаяния.
Вчера по телефону голос Лидии звучал незнакомо и тонко:
«— Не врешь, в самом деле едешь? Ну, мать, осчастливила! Ну Кирка! Ну Кирка!»
Милая моя. Единственный друг. Может, хоть ты скажешь, в чем моя вина? Ведь есть же чья-то вина во всем, что случилось со мной. Неужели моя? В чем? В том, что трудно жила, часто отнимала себя у самых родных, близких, ради многих чужих, которых никогда не видела и не знала?