Вадим Кожевников - Знакомьтесь - Балуев!
— А как вы думаете, Павел Гаврилович, почему я пошла на производство?
— Что же тут думать? — нахмурился Балуев. — Расшиблись вы на своем самолете счастливо. Помню, был на фронте случай: «мессер» нашего «ястребка» сбил. Бросились мы к месту падения, собрали то, что осталось от летчика, для похорон, грамм двести. А вам повезло. Вспаханное поле самортизировало. Раз здоровье позволяет, чего ж тут! Потом, на стройке всегда свежий воздух, полезно.
— Но я же москвичка.
— И я тоже не с Камчатки.
— Вы допускаете возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной?
Балуев опустил глаза, пробормотал:
— Как вам сказать, вообще это и возможно при обоюдной устремленности к какой–нибудь высокой цели. — Подняв голову, объявил сердито: — Но я лично всегда против! Не люблю никакого мошенничества. — Посоветовал сухо: — А вам бы, Ольга Дмитриевна, следовало понять себя отчетливо и не прикрываться седым клочком волос. Никакая вы еще не пожилая женщина, и туалеты свои вам нужно целеустремленно использовать. Столько у нас инженеров среднего возраста! Вот нацелились бы на кого–нибудь и организовали семью. Болтаться одинокой женщине ни к чему.
— Вы так грубо со мной говорите! Я в чем–нибудь виновата?
— Да нет, извините, просто погорячился.
На эту грубость Павел Гаврилович решился после того, как заметил, что его встречи с Ольгой Дмитриевной стали вызывать добродушные усмешки Фирсова, Сиволобова и даже всегда невозмутимого Вильмана.
А бригадирша изолировщиц спросила его:
— Товарищ Балуев, не знаете, где бы зонтик купить?
— Зачем он тебе понадобился? — зная остроязыкость бригадирши и заранее улыбаясь, спросил Балуев.
— Так мы не для себя, для Ольги Дмитриевны, а то когда дождь со снегом, чтобы прическу себе не испортила. Она же, видать, голову красит, только один клок краска не берет. А вы думаете, она уж такая молодая?
Девчата фыркнули.
Балуев смутился и не нашелся что ответить.
Он почувствовал, что и Безуглова стала избегать откровенных разговоров с ним. Зина Пеночкина презрительно отворачивалась, когда он проходил мимо.
Даже Виктор Зайцев больше не говорил с ним на свою любимую тему о том, что нужны книги по всем вопросам жизни, потому что надо учить людей смотреть на самое трудное прямо и чисто и указывать во всех случаях на конкретный идеал.
Хотя Павел Гаврилович и не очень верил в возможность длительных чисто дружеских отношений с Ольгой Дмитриевной, ему иногда все же казалось, что у них они могли бы существовать.
Оставаясь один, он иногда предавался почти юношеским мечтаниям о такой дружбе, которой у него никогда не было. Он вспоминал свои беседы с Ольгой Дмитриевной, вспоминал, как она доверчиво, с откровенным, внимательным любопытством слушала его рассуждения о том, как человек станет еще прекрасней и что реальный коммунизм и сводится к освобождению человека от всяческой материальной зависимости.
Он говорил с ней о том времени, когда все вещи утратят свою первоначальную ценность и будут иметь только один смысл: нужна или не нужна человеку данная вещь.
Ольга Дмитриевна тоже делилась своими мечтами, более скромными, более личными, более откровенными. Жаловалась, что устала жить одна, очень боится одиночества и, понуждаемая страхом одиночества, боится совершить ошибку, слишком поспешно избрав себе спутника жизни. Она даже призналась как–то, что чувствует себя мелкой воровкой, когда стремится видеться с Павлом Гавриловичем, твердо зная, что все это, в сущности, ни к чему хорошему привести не может.
— Это верно, — печально соглашался Балуев. — Я еще недостаточно стар для такой дружбы. А вы еще можете проникнуться ложной иллюзией, что все мужчины столь простодушны, как я перед вами. — Балуев помолчал. — Я свою жену, если хотите знать, по–настоящему полюбил, когда всей жизнью испытал, какая она.
И он рассказал Ольге Дмитриевне о том чувстве благоговейного восторга, каким проникся к жене, узнав, как жила она в эвакуации, с негасимой, гордой любовью к нему.
— И представьте, — говорил Павел Гаврилович взволнованно, — была она тощая, постаревшая, некрасивая, а вот заполнила всю душу мою собой именно тогда. И теперь на всю жизнь. — Разведя руками, признался: — Если бы она узнала, что я про это другой женщине рассказываю, наверно бы возмутилась.
— А вы ей расскажете?
— Не знаю, — сказал Павел Гаврилович. — Не знаю; впрочем, все может быть.
— Наверно, трудно быть человеком полностью счастливым.
— А я презираю людей, сытых счастьем, — негодующе воскликнул Балуев. — Человек и в будущем, и на вечные времена должен жадно стремиться к самому лучшему, а ему, этому лучшему, нет предела.
Пили чай с гренками, поджаренными на электрической плитке, намазывая гренки джемом.
Ольга Дмитриевна рассказывала о своей службе в авиационной части.
— У меня там были подруги, замечательно хорошие. Но после боевого вылета… сами знаете. Как погибали они, не видела. Улетали — и всё. Не возвращались. А все думаешь, что они где–то существуют. А с новыми было так трудно сдружиться! Ляжет на койку, которую твоя подруга занимала, и ты за это ее ненавидишь. Прямо ударила бы.
— А ваш муж?
— Я ведь его не выбирала. Послали в тыл, должна была вывезти его, а машину зениткой повредили. Выкарабкивались оттуда вместе. Он был раненый, но веселый, беспечный. Убил немецкого связиста на дороге, забрал шнапс, еду; потом в лесу пиршествовали. Вышли из вражеского тыла, поженились. Он очень храбрый человек был. Десантник, сами понимаете… Ходил на самое опасное, не любил обременять себя размышлениями о том, как мы дальше с ним жить будем. Смеялся: «Пенсии тебе хватит, я человек посмертно обеспеченный». А я летала, пока не сбили. После госпиталя поступила в институт. От пенсии за мужа отказалась. У него жена была, но он с ней не расписывался, уже немолодая женщина. Он мне о ней не рассказывал. Он вообще не придавал значения ни прошлому, ни будущему своему: он для себя в него не верил.
Слушая, Павел Гаврилович пытался проникнуть в тайный для него смысл ее слов и разгадать, почему эта красивая, гордая, смелая женщина одинока, почему она избегает общества молодых инженеров и ищет встреч с ним. Не влюбилась же она в него? Впрочем, он иногда допускал эту столь лестную для себя надежду и тотчас отвергал, даже с некоторым негодованием, вспоминая, с каким искренним, сочувственным волнением она слушала его, когда он говорил о своей любви к жене. Не лицемерила же она? Скорее он дал повод заподозрить его самого в лицемерии, когда с увлечением предавался мечтаниям о будущем прекрасном человеке. Не подавал ли он ей невольно какие–то надежды найти нечто увлекательное в нем самом?
— Вообще я вам вот что скажу: не имеете вы права быть несчастной!
Ольга Дмитриевна удивленно посмотрела на него:
— А разве я несчастна?
— Но что–то есть неладное, что вас мучит.
Ольга Дмитриевна склонила голову и, водя тыльной стороной чайной ложки по блюдцу, спросила:
— Вы убеждены, что это так?
— Убежден, — не очень уверенно произнес Павел Гаврилович и настойчиво повторил: — Но все–таки я просил бы, если вы мне доверяете, если вы как–то ко мне расположены…
— Расположена, — сказала Ольга Дмитриевна и, прямо глядя в глаза, заявила: — Именно рассчитывая на ваше расположение, я и ждала этого вопроса.
Павел Гаврилович, испытывая смятение от твердого, несмущающегося ее взгляда, робко попросил:
— Я ведь не настаиваю. В сущности, у каждого человека что–нибудь может быть и не так.
Ольга Дмитриевна встала с табуретки, подошла к нему вплотную и сказала сухо и неприязненно:
— Я ведь сбежала сюда. Скрылась от человека, которого любила и который, как он говорил, любит меня. Сбежала, потому что струсила.
— Чего же именно вы струсили?
Она, как–то мгновенно обессилев, опустилась снова на табуретку и, вытянув перед собой на столе руки, сказала, шевеля пальцами:
— После того как я разбилась, в госпитале мне самой вернули жизнь, но дать жизнь другому существу я не могу. И вообще, если бы вы были более внимательны, вы бы давно заметили, — она улыбнулась насмешливо, — что своей чудной талией я обязана металлическому корсету: повреждены позвонки. — Побарабанила пальцами по столу. — Но все же надо признать, вы не лишены некоторой проницательности. Вот. — Отвернулась, спросила: — Может, включить радио? «Маяк» всегда передает что–нибудь развлекательное.
Павел Гаврилович включил приемник. Лицо его было бледно, губы сурово сжаты.
— А вы того… к какому–нибудь знаменитому хирургу не обращались?
Откинув устало со лба волосы, она сказала безнадежно:
— И не к одному и не однажды. Сказали, что, если буду настаивать, можно повторить операцию. Понимаете, повторить, а в исходе ее они не уверены. А я не могу, не могу больше переносить никакой боли!
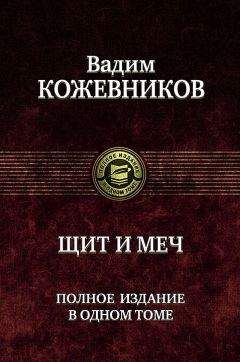
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/uploads/posts/books/24346/24346.jpg)

