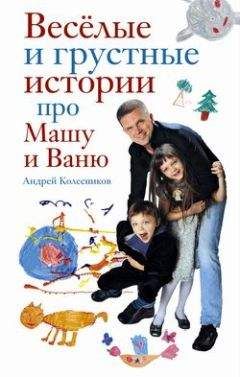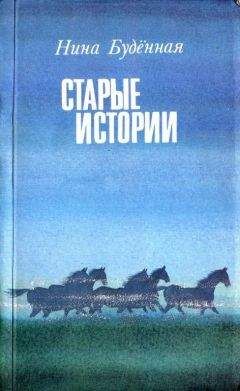Акакий Гецадзе - Весёлые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе
— Караманчик, милый ты мой, куда это мы идём?
— Говорю же, деньги зарабатывать. Ох! Лопни глаза у наших завистников! В городе мы эти хурджины хорошенько вытрусим да наполним их серебром-золотом до самого верху, покроем их парчой-атласом и снова этой дорогой пройдём. Не так уж это трудно, наполнить каждому по одному хурджину, правда ведь?
— Каждому по одному! Нет уж, надо больше. Купим ещё хурджины.
— Уж лучше сундуки, Кечули. По крайней мере, не порвутся.
— Ты прав, золото ведь тяжёлое. Не голова у тебя, Караманчик, а кладезь ума. За то я тебя, дуралея, и люблю! Дай поцелую!
Звёзды ликовали в небе, а на земле — мы.
Там, под большой елью, мы торговали и пили за здоровье друг друга. И ночь перестала быть для нас ночью.
— А правда, мы послушные сыновья, не преступили слова родительского, — поминутно приставал ко мне мой сотрапезник, наполняя до краёв чареку. — Да-да, и впрямь послушные! Сказали нам, продайте, мы и продали. Ты что же молчишь, заснул, что ли?
— Я?.. Нет, что ты! Конечно, ты прав, Кечули, раз уж объявился покупатель, грех было его отпускать с пустыми руками.
Вошедший во вкус Кечо всё крепче жмёт мою руку и бормочет:
— А знаешь ли ты, что такое вино?
— Конечно, знаю, вино, брат, это и пир, и веселье, и ссора, и песня, и ругань, и проклятие. Так говорил покойный дед мой, а дедушка, да будет тебе известно, лжи до смерти не терпел. Согласен я с ним, да только не ссорюсь и не ругаюсь, а пою и веселюсь.
— Покойный дед твой, конечно, был страсть как умён, а вот тут-то и ошибся, не то сказал, — возразил Кечо, стараясь обойтись как можно почтительней с моим мёртвым предком. — Вино, милый мой, это солнце, солнце! Налей его в стакан и посмотри на свет, истинное солнце! Ну и что ж, что в чареке этого не видно, да ведь и солнце не светит, если оно закрыто тучами. Так почему я должен продать это солнце другому? А сам-то я на что! Ещё неизвестно кому продашь, может, какой-нибудь дряни. Не жаль разве, чтобы это солнце выпил другой, а мы с тобой остались с носом?! Давай-ка этой чарекой восславим солнце!
— Да здравствует, да здравствует! Но уж если ты мне друг, не поминай так часто солнце, — оно мне сразу Гульчину напоминает.
— Каро, парень, ты её правда так сильно любишь?
Я печально кивнул головой.
— Тогда давай, была не была, вернёмся назад, и я похищу её. Ведь не зря говорят, брат брату в чёрный день!
— Ты что, рехнулся, что ли! Куда же мы её денем? Где жить с нею будем, под этой елью, что ли? А кормить чем прикажешь, хвоей?! Вот заработаю в городе много денег, тогда, если не согласится она пойти за меня, непременно украду её, а ты мне в этом поможешь.
Я испугался, как бы Кечо спьяна не поворотил назад и не привёл своих угроз в исполнение, и чтобы отвлечь его внимание, начал громко петь.
А Кечо запел своё. Нам было всё равно, что петь. Мы так кричали, что звёзды на небе навострили уши, что, мол, на земле стряслось? Вероятно, шум, затеянный нами, возмутил покой не одного звериного семейства, и не у одной птицы мы спугнули сон.
— Что за пир без танцев! Бей в ладоши — таши, Караман! — попытался встать на кончики пальцев Кечо, но не смог. Качаясь, вразвалку, он прошёлся вокруг огня как тощий медведь: таши, Каро, таши!
Э-эх, веселись, пируй,
Кечулия! Небо и земля пусть слышат! —
пел он, пританцовывая.
Я было тоже пустился в пляс. Ноги мои так и поплыли сами собой, и поднялся от этого такой ветер, что огонь в костре разгорелся, дым от огня пробрался меж сучьев и хвоя затрещала.
«Ещё чего доброго лес подожгу», — подумал я. Вино-то я пил, а ума не терял. Танцуя, Кечо упал передо мною, а я навалился на него. Потом мы поднялись и снова предались возлияниям.
— Кто там крадётся, Караман? — уставился в темноту Кечо.
— Где? — спросил я испуганно и полез в карман за перочинным ножом.
— Вон, смотри, там кто-то в чёрной бурке.
— Где, где, тебя спрашиваю?
— Вон.
— Да успокойся, дуралей, пень это, чёрный пень.
— Неужто?
— Мы ведь под ним хворост собрали, забыл?
— Ах, да, конечно, но если кто к нам сунется, пусть только посмеют, я им задам… как шашлык на кинжал нанижу!
— А где у тебя кинжал?
— Как где, дома! Что я не смогу принести его, или у меня к ногам мельничный жёрнов привязан! Налей-ка мне ещё, в горле словно засуха настала.
— Хватит, Кечо, бог с тобой! Спрячь этот грош, он тебе на чёрный день пригодится.
— Пусть чёрный день настанет у моего врага! На что мне чёрный день? Вредный ты человек, Караман, для друга вино пожалел. Скряга, сначала даром поил меня, а теперь и на собственные деньги пить не даёшь!
— Ты чего, пристукнуло тебя, что ли! Не нужно тебе больше, да и мне не нужно. Чувствуешь, голова у тебя на плечах не держится?
— У кого это не держится, у меня-то? Да столько силы во мне за всю жизнь не было. Захочу, землю в пыль превращу да в небо кину, все глаза ему засыплю, совсем ослеплю! А звёзды эти, чего они там, если уж светят, то пусть себе светят, а нет, так и не надо! Ты что же это, сукин сын, вздумал со мною ссориться! Да знаешь ли ты, кто я такой?! Не знаешь, так оставь меня в покое, найди себе ровню, с ним и ссорься. А сейчас я хочу не ссоры, а песни!..
Кошка бродит, кошка бродит!
Спасайтесь, мыши!
Эй-да, быстреее-и, мыши! —
пропел он в темноту. Ветер принёс обратно только два последних слова: «Спасайтесь, мыши!»
Что было потом, не помню. Проснувшись, я почувствовал, что голова моя покоится на пустом бурдючке.
Солнце взобралось на ветки ели и сидело на ней, как чертёнок. Огонь превратился в золу, а трава вокруг него увяла. Кругом валялись остатки пиршества — огрызки ветчины, куски хлеба. Опрокинувшаяся на бок чарека мирно дремала у моих ног. Кечо уже стоял на ногах, и лицо у него было такое, словно вместо свежего лесного воздуха он глотал горький серный дым. Увидел, что я проснулся, и подошёл ко мне.
— Как ты себя чувствуешь, Каро?
— Голова немного болит.
— Немного? Счастливчик ты, Караман. Хотя, конечно, вино из собственного погреба не может тебе повредить.
— Ну разве во всём виновато вино?
— А кто же как не оно, проклятое. Чёрт меня дёрнул продать тебе первую чареку! — в голосе Кечо мешались слёзы и упрёк, — много я от тебя, непутёвого, выгадал.
— Что же, Караман, что ли, по-твоему, выгадал? — возразил я и бодро поднялся. От движения боль в голове усилилась, и мне пришлось снова лечь.
— Кечули, твой бурдюк совсем пуст?
— Всё, что я не продал, пролилось. А у тебя осталось что-нибудь, хоть немного?
— Видно и у меня пролилось, наберётся около пяти чарек. Налить тебе?
— Ни-ни! Смотреть тошно!
— А знаешь ли ты, что вино лучшее лекарство от перепоя?
Я поднялся, медленно передвигаясь, побрёл к роднику, подставил лицо под струю холодной воды, а вернувшись к ели, наполнил чареку и поднёс её ко рту. Сначала мне было неприятно, но постепенно настроение у меня улучшилось, а потом стало и совсем хорошее.
Кечо всё воротил нос, не напоминай мне, мол, про вино. Я насильно влил ему в глотку несколько капель, он поморщился, но проглотил довольно охотно и вскоре тоже развеселился.
— Дай бог тебе счастья! И впрямь это лекарство. На-ка, забирай обратно свой пятак, глаза бы мои на него не глядели!
— Ты что, хочешь, чтобы я тебе снова вина продал? — пошутил я со своим покупателем.
— Ещё и издевается! Забирай! Забирай, говорю, не то выкину в речку, во всём он, проклятый, виноват.
— Вот так всегда! Сам всё натворил, а непременно хочет свалить на другого, — сказал я, пряча пятак в кисет. — Я так думаю, и чареке тут не поздоровится, отдай её лучше мне.
— Ну нет, она-то уж к делу непричастна, пусть остаётся!
Видите, мои хорошие, что произошло? Пятак вертелся-вертелся меж двух бурдюков, оба опустошил и возвратился к хозяину. А мы с Кечо торговали-торговали да так ни с чем и остались, в одном только всё-таки нам привезло: груз легче стал!
— Кечули, а помнишь, ты вчера хотел возвратиться с пути да похитить Гульчину? Ну как, брат, не передумал?! — спросил я нарочно. — Сказать по правде, дела у нас не блестящи. Бурдюки, как и карманы, пусты, что поделаешь, видно и впрямь возвращаться придётся?
— Ты что, спятил, что ли? Как же это мы в деревне покажемся? Отец как узнает, что я до города не дошёл и с пустыми руками домой возвратился — изведёт. Житья мне от него не будет. Идти всё-таки придётся. Руки-ноги у нас, слава богу, целы — не пропадём, не бойся. Поедем мы в этот чудо-город и будь что будет. Эх, пропадай моя головушка!
— Значит, всё-таки идём?! — снова спросил я. — Трудно нам будет, парень, очень трудно. В деревне, там хоть, как телёнок, травкой наешься, а в городе?
— Спасает нас в городе умение торговать, оно и держит, скажешь, нет?