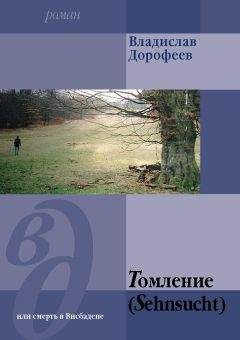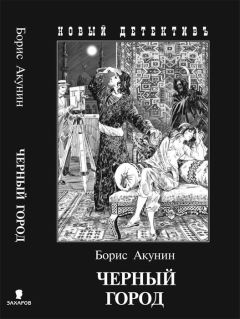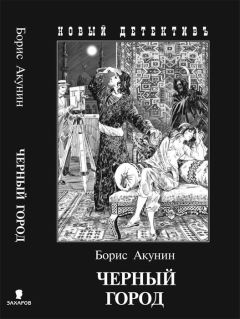Борис Полевой - Глубокий тыл
Фельдъегерь принес серый пакет. Анна расписалась в книге, сломала печать. Это были переводы писем, оставленных ею в горкоме, и коротенькая записка секретаря: он поздравлял с доброй инициативой шефства над госпиталем. Советовал, когда накопится опыт, написать об этом статью в областную газету. В конце была приписка: «Пересылаю Вам переводы писем. Судя по всему, эта девушка не ошиблась в своем знакомом. Переводила моя дочка. За точность ручаюсь: она целый вечер пропыхтела со словарем. Но немецкий у них в школе преподают неважно. Перевод слишком уже буквален, так, например, «большой отец» — это, наверное, надо читать как «дедушка».
Анна жадно схватила переводы, аккуратно выведенные ученическим почерком на четвертушках, вырванных из тетради по арифметике. Может быть, через них заглянет она в тот уголок Жениной жизни, который пока был никому не доступен?.. И она прочла:
«Любимый товарищ Женя! Письмо это пишу в торопливости и буду класть его туда, откуда будет брать его ваш большой отец. Тот, перед которым я имел страх, подарил внимание моим посещениям вашей фамилии. За мной следят. Вы должны верить, товарищ Женя (вы всегда смеялись, когда я к вашему имени это слово прибавляю, но оно есть такое дорогое для меня — «товарищ»), я есть очень грустный, что видеть вас и вашего большого отца, уважаемого господина Степана, не смогу. Но я боюсь привести с собой в вашу фамилию несчастье и лишиться возможности показать вам мою честность…»
«Чудной у них язык, марсианский какой-то! Разве так люди говорят?» — думала Анна, читая письмо и боясь пропустить хоть какой-нибудь оттенок написанного.
«Наши военные вожди очень серьезно обеспокоены тем, что в районе Москвы случилось, хотя офицеры говорят дальше, что это большевистская пропаганда — не больше. Но я знаю, что несколько частей неотложно сняли отсюда (номера узнать не удалось) и увезли в направлении Москвы. Воскресенья отменены, обеденную еду возят в окопы. Настроение плохое, все имеют страх, что рождество, на которое все ждали выпивки и подарков, придется провести в боях в лесу. Если все хорошо будет, это произойдет сегодня, и тогда — до свиданья, дорогой и любимый русский товарищ Женя и ваш большой отец господин Степан. Я хорошо помню слова, которые для меня, может быть, сегодня пригодятся. Красный фронт!
Ваш К.».
Анна осмотрела и подлинник и перевод. Письмо было датировано восьмым декабря. Перевод другого, закапанного свечным салом, девочке удалось сделать, видимо, с еще большим трудом.
«Л. Т. Ж.! (Наверно, опять любимый товарищ Женя!) Я уже два раза произносить русские слова готовился, но луна светила, и я должен был возвратиться. Это сегодня произойдет или никогда. Я узнал: из Верхневолжска на Москву ушли 47 т. п. 18,38 (что это, не знаю — в словаре нет!) пехотные части. Начали госпитали эвакуировать. Всюду имеются разговоры о московском контрнаступлении. Все тревожные. Еще один раз: сегодня или никогда… Я ваших уроков не забыл, любимый товарищ Женя. Красный фронт! К.»
Анна несколько раз перечитала эти переводы. Она уже понимала, что странный язык — это оттого, что девочка переводила письма буквально, слово за словом. Теперь ее интересовало: почему племянница не показали эти документы раньше? Самолюбие? Гордость? Нежелание передать в чужие руки? Значит, к ней не нашли правильного подхода, значит, она нам не верила… Страшный урок! Его никогда не забудешь… Анна многое бы отдала, чтобы найти хоть какой-нибудь следок Жени.
«Я промахнулась, Танюша, я позорно, тяжело промахнулась, но я ничего не забыла, я все, все помню…»—так начала она ответ сестре…
7
Настал день, когда ожила и прядильная фабрика — так в печати назвали цеха, организованные в уцелевшем приделке огромного сожженного здания. Вряд ли завертелась даже двадцатая доля веретен, которые распевали здесь всего несколько месяцев назад. Но как этого ждали! В городе не хватало рабочих рук. Многие прядильщицы уже устроились на других, менее разоренных предприятиях, нашли работу в госпиталях, в восстанавливаемой торговой сети, в столовых. Новая работа часто вознаграждалась даже лучше прежней. Однако, как только стало известно, что пускают прядильную, директора завалили заявлениями, письмами, просьбами вернуть на прежнее место. Его ловили на улице, подкарауливали на квартире, часами дежурили у его кабинета: хоть обметалкой, хоть уборщицей, но только на свою фабрику.
В предпусковые дни было много суматохи: то недоделали, это позабыли, что-то соорудили не так, что-то не предусмотрели. Спорили. До хрипоты бранились по телефону. В этой суете Ксения Степановна была, как всегда, ровна, спокойна, деловита, и, глядя на нее, никому и в голову не могло прийти, что она-то и волнуется больше всех. Волнуется так, что потеряла аппетит, сон. Лишь когда все было готово, когда машины, очищенные от ржавчины, обтертые, выстроились, матово поблескивая, как холеные кони, сверкая рядами веретен, и оставалось только нажать рукой пусковой механизм, чтобы веретена ожили, закружились, лишь тогда на спокойном лице знаменитой прядильщицы появилось такое выражение, будто она опасалась, что при этом может произойти взрыв. «Батюшки, что же это со мной!» — думала она, чувствуя, как отчаянно колотится сердце.
Но вот веретена, закружившись, слились в сверкающие прозрачные столбики. Ровница потекла с толстых пушистых катушек. Привычно запахло разогретым маслом. Зашумели соседние ватерные машины. Ровный свистящий шум наполнил помещение.
В цехе стоял промозглый холод. Машины еще не разработались. Отсыревшая ровница то и дело рвалась. «Ой, как тут управишься!..» — испуганно подумала Ксения Степановна. Через полчаса и она, мастерица из мастериц, была вся в поту. И все-таки необычная, нервная, изнуряющая работа не погасила в ней доброй радости: ожила, запела родная фабрика!
В эту первую смену к машинам встали лучшие верхневолжские прядильщицы. Но и им было трудно в этих почти невероятных условиях. Нити плохо подчинялись даже опытным, молниеносно действующим пальцам. Они рвались, наматывались на валики, захлестывали соседние. То там, то здесь возникали этакие прозрачные вихревые смерчи бешено крутящихся обрывков. Несмотря на холод, работницы в первые же минуты поснимали платки, верхнюю одежду. Лица их стали влажными. Но изредка бросив быстрый взгляд на соседок, Ксения Степановна неизменно видела на разгоряченных лицах какое-то особое, радостное и будто бы даже пьяное выражение. Сама она, работая так, что глазам трудно было уловить полет ее руки, все время повторяла про себя: «Шумит, идет родная», — и чувствовала, что улыбается.
Когда же, приблизившись к краю машины, довелось ей, взглянув в окно, увидеть на заснеженном дворе обрубленный снарядом тополь и осколок закопченной стены с пустыми окнами, сквозь которые сияло небо, ей вдруг подумалось: страшная война бушует совсем рядом, разрушенный город стынет в снегах, а тут вот, вопреки всему, привычно шумят веретена, текут, наматываясь на шпули, нити… Не так уж существенно, сколько пряжи отправят сегодня отсюда на ткацкую. Вероятно, все увезут на двух-трех машинах, в большом хозяйстве это пустяк. И все-таки этот день важен, очень важен. Сегодня и прядильщики показывают, что советские люди совершают невозможное. Ведь совсем недавно они и сами с трудом верили, что в этом жалком приделке можно что-нибудь создать.
Жужжали, жужжали, жужжали веретена, и Ксения Степановна никак не могла отделаться от странного ощущения: казалось, что-то подобное она уже когда-то переживала — и эту необыкновенную радость, и это ожидание радостей новых, и даже то, что от ожидания хочется не смеяться, а плакать. Но когда же это было? И она вспомнила: в двадцатых годах, в голод. Мать заболела сыпняком и лежала в старой фабричной больнице, остриженная наголо, высохшая, маленькая, почти бездыханная. Со дня на день ждали тяжелых известий, измучились… Чтобы поддержать ее, Степан Михайлович снес на толкучку свое драповое пальто и выменял на масло. Но мать уже ничего не ела. Тогда масло выменяли на компот, сварили, и Ксения в солдатском котелке понесла его в больницу. В дверях терапевтического отделения ее чуть не сшиб с ног стремительный Владим Владимыч. «Ох и жилиста ж ваша мамка, вырвалась, кажется, у смерти из лап», — сказал он тогда… Вот та же беспокойная радость, какую Ксения испытала, услышав это, осеняет ее сейчас. И так же, как тогда, хочется заплакать.
Девчонкой пришла сюда Ксения Шаповалова, и вся ее жизнь связана с этой фабрикой. Здесь вступала она в комсомол, когда в их ячейке было всего четверо парней. Здесь познакомилась она со своим Филей, отсюда проводила она его на гражданскую войну, и сюда вернулся он, отвоевав.
Тут, под жужжание веретен, почувствовала Ксения впервые, как что-то вдруг, вздрогнув, шевельнулось у нее в животе… И вся она, наполняясь тихой теплотой, поняла: это новое, неведомое, растущее в ней существо дает знать, что оно живо… Это было первым движением ее сына. Где-то он сейчас, ее мальчик, лейтенант танковых войск Марат Шаповалов?..