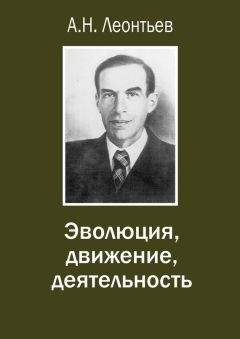Алексей Чупров - Тройная медь
— У меня неприятности, — проговорил он, страдая от ее обычных, домашних слое. — И вчера я… В общежитии… Так получилось…
— Я знаю, — сказала Алена. — Я заходила за тобой, но дежурная меня не пропустила. Вы там гуляли достаточно громко. И девушки на балконе Высоцкому подпевали…
— У Чекулаева день рождения был… Я думал, тебе заниматься надо, думал, заскочу и — назад… — начал было оправдываться Федор, но улыбка Алены, ее сострадающий то ли ему, то ли себе взгляд показались ему выражением ее превосходства над ним и сожаления об их отношениях. Это возмутило его. — Что ж мне, и погулять у друга на дне рождения нельзя теперь? — напирая на «теперь», спросил он.
— Тебе все теперь можно, — ответила Алена, тоже сделав ударение на «теперь».
Он понял это так, что она упрекает его своей беременностью.
— Так же, как и тебе, — сказал он.
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего другого, кроме твоих дружеских встреч с Юрьевским, — тяжело выговорил он и взглянул на нее почти испуганно.
Если бы она засмеялась, или возмутилась, или хоть как-то отрицала его слова, но смущение — смущение! — открылось ему на ее лице.
— Мои отношения с Юрьевским… — И голос дрогнул.
«Вот оно, значит, как. Так и есть… Так и есть!» — сердце Федора колотилось бешено. И все, что было горького, связанного с отцом и с матерью, с тем как распалась их семья, презрение к страшной хрупкости отношений между людьми, затерянными в бесконечном пространстве и не осознающими, ни кто они, ни зачем все это, а лишь изменяющими и изменяющими за краткий миг жизни друг другу и самим себе, всколыхнулось в нем…
Он ушел. И снова ночевал в общежитии, и опять сидел за полночь с Чекулаевым, и они ругали последними словами Василия Гавриловича и говорили друг другу слова вечной дружбы.
2Звонок был неожиданным. Ирина Сергеевна опаздывала на службу, слушала Юрьевского, односложно отвечала ему, посматривая на часы, и рада была, когда повесила трубку. Но в машине, едва она переулками выбралась на магистраль и покатила в общем потоке, разговор этот на ходу снова вспомнился ей.
«Чуткий какой мальчик, — думала она о Юрьевском. — Обиды любви — самые болезненные обиды, а он, несмотря ни на что, беспокоится об Алене: „Выглядит плохо… поговорите с ней… может быть, у нее что-нибудь случилось…“ Слава богу, он, кажется, не знает пока о переселении Федора к Алене… Что же делают с людьми чувства?! И как все это мгновенно — решения, повороты судьбы…»
Монотонность движения всего вокруг перед глазами Ирины Сергеевны, заученность приемов управления машиной как бы выбрасывали настоящее за границы сознания, и все ее существо захватывал давний-давний августовский знойный вечер, с хрустящими под ногами сухими листьями лип и кленов Петровского парка.
Она и Ивлев, гуляя, уже вышли к метро «Динамо». Она попросила, и он купил мороженое. Они стояли, прислонясь к прохладному граниту касс стадиона, смотрели на безмятежный золотистый закат и смаковали мороженое. Ивлев что-то рассказывал, но она не слушала, набираясь мужества сказать о своих отношениях с Толей Чертковым.
Наконец, решась, она перебила его на полуслове: «Знаешь, как ко мне относится Толя?»
Он с беспечной улыбкой кивнул: «Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз, приманчивый для самых честных глаз…»
«При чем здесь Шекспир? — воскликнула она в отчаянии и, помолчав, сообщила с деланным безразличием: — Он мне тоже начинает нравиться…»
«В каком смысле?» — удивился Ивлев.
«В том самом», — ответила она.
Муж усмехнулся. Он умел усмехаться так — снисходительно, с оттенком презрения, словно ему по какому-то праву было дано судить людей и прощать их слабости. И сказал: «В таких делах каждый сам себе хозяин… Прошу одно, Алену пока оставь. Что ей с вами мотаться? Ведь, как я понимаю, вы не для того сходитесь, чтобы жить в разных концах страны…»
Она горько заплакала.
Но помнила Ирина Сергеевна о тех минутах у Петровского парка вовсе не оттого, что не могла забыть Ивлева; новое сильное чувство, впечатления от частой перемены мест быстро и безболезненно обескровили память о нем; помнила она тот давний душный вечер и те свои слезы, так как они стали рубежом, отделившим ее от дочери.
Сколько раз Ирина Сергеевна чувствовала, в какое одиночество ввергает ее отдаленность самого родного существа. И как даже в самые счастливые минуты мечтала она быть с дочерью… Но у дочери была своя взрослая жизнь, и мечты Ирины Сергеевны оставались мечтами.
Этот утренний звонок Юрьевского обнадеживал: если что-то случилось, кому, как не ей, матери, броситься дочери на помощь, забыв все обиды…
Сойдя с университетских ступеней, Алена направилась было к автобусной остановке, но услышала, как рядом кто-то посигналил. Подняв голову, она увидела серебристую машину матери.
Алена подошла к машине.
— Садись, — сказала Ирина Сергеевна.
Алена забралась на заднее сиденье, положила рядом свой портфельчик.
— Ты что — сама мрачность? — спросила Ирина Сергеевна.
Алена не отвечала.
— Тебя домой везти?
— Домой.
— А почему так поздно возвращаешься? Я долго ждала.
— В библиотеке, — неопределенно ответила Алена.
— Нет. Что-то у вас там происходит, — сказала Ирина Сергеевна. — От Елены Константиновны толку не добьешься. Она от Федора в восторге… То он делает, это чинит, в магазины ходит, деньги зарабатывает… Но я же чувствую — что-то не так… — Она плавно тронула машину с места и поехала вокруг главного здания университета. — Я теперь работаю. Связано с переводами. Вот надо заскочить в магазин, словарь специальный купить… — В зеркальце Ирина Сергеевна поглядела на заднее сиденье и увидела, как увяли черты лица дочери, — вот-вот заплачет. — Что с тобой? Что? — испугалась она.
— Ничего, ничего, — повторила Алена голосом, в котором слышались сдерживаемые рыдания.
Ирина Сергеевна решительно притормозила у фонтанов напротив главного входа. Леденистые задорные хвосты фонтанов трепал ветер. Она спросила, не оборачиваясь к Алене, словно боясь, что от этого движения дочь и вправду может заплакать:
— Милая моя, ну что такое?
И вместо ответа услышала всхлипывания дочери.
Она перебралась к ней на заднее сиденье, обняла, прижала к себе:
— Ну что? Он тебя обижает?
Алена припала лицом к ее плечу:
— Он, наверное, считает, что ребенок не от него…
— Что?! Ребенок?! Какой сейчас может быть ребенок? — изумилась Ирина Сергеевна. — Да вы что, в дочки-матери играете? Как ребенок?! А твоя учеба? Летняя практика? И он… ты же мне сама толковала, и он собирается учиться…
Алена плакала.
— Сколько уже? — твердо спросила Ирина Сергеевна.
— Около двух, наверное… Но если он так, — словно бы доспоривая с самой собой, проговорила Алена. — Если он так, то пусть не будет ребенка… Пусть он узнает…
— Что за ахинея? Сводить какие-то счеты таким образом…
— У нас одна девочка из нашего класса работает медсестрой в гинекологии… Она обещала договориться… И врач там женщина. Там мне сделают, а потом сразу отпустят… Отлежусь дома, и не узнает никто…
— Ты с ума сошла! — оттолкнула ее Ирина Сергеевна. — Что значит «сделают»! Кто сделает?! Ты понимаешь, какие последствия?..
— В том-то и дело, мамочка, что без всяких последствий…
Воспоминания о первых днях жизни с Федором мучили и дразнили ее. В глубине души ей казалось, не случись беременности, все между ними оставалось бы по-старому. И она надеялась, избавившись от беременности и сказав Федору, что ошиблась, вернуть прежнее в их чувствах и вновь завоевать его. И хотя Алена понимала, что по отношению к ней он поступает низко, но подозрение, что где-то там у него есть еще кто-то, кого он так же целует и говорит те же ласковые слова, было настолько мучительно, что заставляло бороться за него любыми средствами.
— Ты не слышишь, что ты говоришь, — сказала Ирина Сергеевна. У нее появилось желание упрекнуть дочь, напомнить ей, как она убеждала ее не делать опрометчивого шага, подождать с Федором, — и вот результат… Но она сдержалась. Это была дочь, и она была несчастна. И если кто и виноват в этих несчастьях больше всех, так это она, ее мать… — А как ты думаешь с Федором дальше? — спросила она.
— Не знаю. — Алена принялась вытирать платком глаза. — С ним трудно. У него все или черное или белое… Я ему говорю: «Так нельзя», — а он: «Когда белое с черным мешают, грязь получается…»
Ирина Сергеевна не выдержала:
— Ты говоришь так, будто думаешь о продолжении ваших отношений.
— Не знаю, — повторила Алена. — Где ему жить, из общежития он ушел, и на заводе какие-то неприятности…
— Боже мой, да о чем ты думаешь! — возмутилась Ирина Сергеевна. — Я все понимаю. Поэзия первой страсти — это азартная игра. Но взгляни на секунду трезвыми глазами. Ты же видишь, что это за человек… И это не мои или папины слова, это его поступки. Я тебе больше скажу. Если ты с ним останешься, он тебя в конце концов возненавидит. Ведь он не может не понимать, что обижает тебя. А люди в наше время чаще всего ненавидят тех, кого обижают, кому делают больно, потому что в ненависти уже есть оправдание обиде… А папа… Если папа узнает?