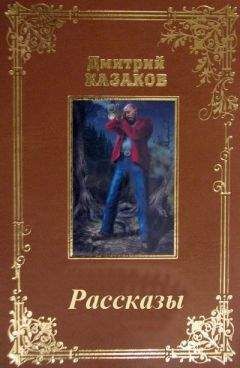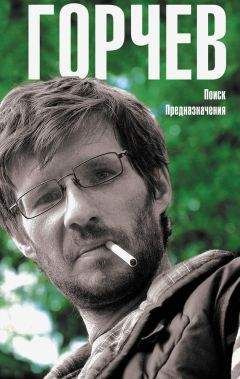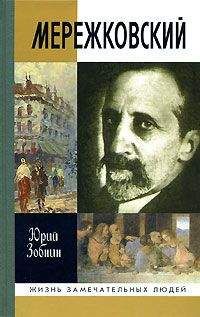Дмитрий Урин - Крылья в кармане
— Все это хорошо! Но я не верю в Бога.
Что касается людей, то о них он даже не говорил.
Непонятно, почему он читал газеты — долго, шепотом, вслух, как молитвы?
Дорогой, дорогой старик! Зачем в продолжение шестидесяти лет он тратил свои силы только на мысли? Почему он не стал знаменитым портным, не изобрел безопасного кармана или какой-нибудь моды? Почему он не ограбил богача, не украл красавицу, не пошел в армию трудящихся? Почему он только думал?
Задумавшись, он жевал свой коленкоровый портновский метр.
Это была точная машина самоуглубления. Чем дольше продолжалось раздумье, тем больше он сжевывал. Можно было определить, на сколько сантиметров задумался старик. Иногда глаза его становились голубыми-голубыми, он останавливал иголку, и у жующих старческих губ я видел цифру «22». Цифры выше я не видел. Это он думал о смерти.
Двадцать два сантиметра.
Нет, нет! Друзья, сверстники, товарищи! Оставим старикам «22 сантиметра»! А мы давайте — в ряды рискующих, в ряды ученых и мореплавателей, бросающих бесконечный лот познания в глубины океанов и лет. Чего стесняться! Поэзия так поэзия! Любопытство так любопытство! Мы — молоды. Это оправдывает все.
Я окончил рабфак. Поступил сначала в один, потом в другой институт, потом бросил, пошел снова на производство, потом поступил в Красную армию, расстался со стариком, со своим городом, встретил Василия Холмогорова и начал жизнь, продолжаю которую сейчас и надеюсь продолжать до последней страницы.
После демобилизации в полк на мое имя пришло письмо. Там знали, что я ушел с Холмогоровым и переадресовали письмо в деревню. Я получил его в Балайбе на следующий день после организации колхоза. По предложению Василия колхоз был назван «Справедливый путь марксизма».
А вот и письмо, — оно написано по-русски и по-еврейски, на трех страницах, вырванных из тетради:
«Дорогой Митя!
Мы, слава Богу, здоровы, если тебя это интересует. Как-таки так не написать ни разу письма? Дядька может умереть, может сказиться, может уехать в Америку — тебе все равно. Есть пословица: отрезанный ломоть не укусишь. Но Бог с тобой! Молодые люди, что с них требовать! Мы все-таки очень тебя любим и очень интересуемся узнать о твоем здоровье. Что ты собираешься делать после военной службы? Не женился ли ты? Какой у тебя пост? Одним словом — что и как?
Не стесняйся — и пиши.
Ты уже, наверное, комсомолец или партиец? А? Будь себе на здоровье кем хочешь, мы в идеи не вмешиваемся. Но нужно тебе написать, что, может быть, следует не торопиться с идеями, так как есть новости.
Читай внимательно.
От дядьки твоего Льва Исааковича Шумана из Нью-Йорка приехал человек, который интересовался тебя видеть. Он попал сначала на квартиру к этому сумасшедшему портному Фальку. Ты представляешь себе эту пару? Твой Фальк — и американец в хорошем костюме, в хорошей шляпе, одетый как человек?!
— Где Митя? — спрашивает американец.
— Он на службе.
— Где — на службе?
— В Красной армии.
— В какой Красной армии?
— Что значит — в какой? В военной Красной армии.
— Может быть вы знаете адрес этой армии? — спрашивает американец.
Ну, Фальк ему ответил. Ты представляешь себе этот ответ? Во-первых, он сказал, что он не адресный стол, во-вторых, что адрес Красной армии у них, за границей, знают больше, чем это полагается для вежливых соседей, и в-третьих, что он просит не морочить ему голову и не морочить себе голову, а ехать обратно домой и передать там, кому полагается, чтоб они не интересовались адресами Красной армии.
И ты знаешь, как этот сумасшедший паршивец закончил свою речь? Послушай. Он встал, поднял руку, как учитель, и выпустил из беззубого рта птичку:
— Пусть они не интересуются, какой адрес у Красной армии, и пусть они сидят, и пусть не рыпаются, чтоб не вышло, как с теми китайцами!
После этого он протянул несчастному американцу свою костлявую руку и сказал:
— Примите, господин американец, мои искренние уверения в совершенном к вам почтении, остаюсь портной Осип Фальк.
Как тебе нравится этот министр?
Это еще ничего, что министр. Это бывает с людьми. Простого министра можно посадить в сумасшедший дом. Но как тебе нравится, что этот старый портач, латачник, стал на старости лет большевиком?
Портной Осип Фальк, этот высокий, аж горбатый нищий, этот смирный нищий, принял на шестидесятом году жизни большевистскую идею!
Он прав, этот американец, — ей-богу, прав, когда спрашивает: „Куда идет Европа?“
Он прав! Я тоже не знаю, куда идет Европа!
Хорошо, что мне удалось поймать этого человека и узнать у него все, что можно. Твой дядя Лев Исаакович Шуман хочет выписать тебя в Нью-Йорк. Этот господин — так себе путешественник, любитель — взялся тебя разыскать.
— Доброе дело, — говорит он, — нужно делать, как всякое дело, — по-деловому: взялся, наметил цель — и пошел, до победного конца. Я его найду, этого молодого человека, — говорит он про тебя, — вручу ему шифскарту и доставлю в Нью-Йорк.
Ты понимаешь, конечно, что меня это заинтересовало.
— Послушайте, — говорю я, — чего вам приспичил этот именно молодой человек? Что, у его дядьки нет больше наследников?
— Нет, — отвечает он, — наследников хватает. Сколько угодно! Больше, чем надо! Наследство он ему не собирается оставлять. Вы, — говорит, — бросьте эти французские романы. Мистер Шуман хочет сделать доброе дело — это раз, а если племянник окажется толковым, то он может получить место управляющего в одном из дядькиных магазинов.
Понимаешь? Я ему ответил, что ты не только толковый, что ты — талант, что ты — золото самоварное. Чего не скажешь ради родственника?
Все это ты обдумай. Не делай глупостей. Шифскарты на улице не валяются и должности заведующих магазином тоже не валяются, и Америка тоже. Там, говорят, хлеб — без карточек, и обеды — без очереди, и можно купить какие угодно туфли — без талонов. Говорят… Я не ручаюсь. Социализма там, конечно, нет. Ты может быть коммунист, так не думай, что я, не дай Бог, контрреволюционер и советую тебе поехать к капиталистам в Америку. Я предупреждаю тебя. Социализма там нет. Чего нет, того нет. Ты все это обдумай. Только думай мозгами, а не сиденьем. Американец — упора. Он поехал тебя искать, и ты скоро можешь иметь его гостем. Адрес ему я, конечно, дал. Это ж не секрет. Мы все тебя целуем, завидуем тебе, но ничего не рискуем советовать. Каждый живет своим умом. А у кого ума нет, тому, конечно, хуже.
Еще раз целую. Твой преданный друг и дядя Зяма Новинкер».
Память — на службу!И не знаю я, и не ведаю,
Как назвать тебя, как прикликати?
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью.
А назвать-то их нет умения,
Сосчитать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал,
Не разглядывал, не распытывал.
Эти стихи я заучил в школе много лет тому назад. Стихи мы заучивали механически, — большего от нас не требовали, и в складках памяти, смехотворных, как лавка старьевщика, эти строки лежат, неизвестно зачем, долгие годы, рядом с мальчиком, которому и больно и смешно, рядом с весной, когда выставляется первая рама, в этом же отделе памяти, где огонек, потухший в селе за рекою, где «Бейте в площади бунтов топот» Маяковского, где «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Бориса Пастернака, где горластая песня про то, что «как один умрем в борьбе за это».
Страшны склады памяти, не проветренные ни революцией, ни болезнями, ни путешествиями, ни зачеркиваниями и начинаниями сначала. Страшны склады памяти — отдел стихов, отдел цифр, отдел улиц, отдел друзей, отдел девушек, отдел первых ощущений детства, отдел музыки, лейтмотивов знаменитых фраз, — не заблудись, товарищ! Воспоминания не убегут — их нечего жалеть. Не тревожь памяти, не путай себя, успеется! Действуй, работай! Живи!
И не знаю я, и не ведаю.
Как назвать тебя, как прикликати…
Как из-под спуда воспоминаний выползли эти строки? Не знаю. Не могу знать.
Дело было в Бапайбе, часов этак в шесть-семь вечера. Я ходил в полях по узкой меже, среди нескошенной еще бледно-золотой ржи. Тихий ветер поглаживал и расчесывал ее осторожно, как мать, и она шелестела. Солнце становилось красным и занимало полнеба. На красном его фоне был виден дальний сосновый лесок — синий, темно-синий, как надвигающаяся ночь. Со всех сторон меня окружали просторы — отдыхающие, засеянные гречихой и клевером поля, чуть поднятые над землей крыши Ба-лайбы, и прежде всего — воздухи, свободные, влекущие, на все стороны широкие воздухи, от которых дышится во всю силу и руки поднимаются, как птичьи крылья, и хлопаются, и обнимают необъятное, то есть весь рабочий кусок планеты, весь братский социалистический мир, Советский Союз, Россию. И тогда я вспомнил: