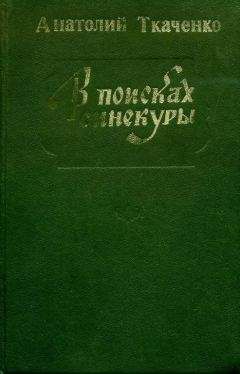Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
Здесь можно кончать рассказ — рассказ о том, как создаются рассказы.
Прошли год, и еще год и еще. Сылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину множество стало ездить людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографироны были он и она: в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю, — она в японском кимоно, она в европейском платье.
Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержания. Она спрашивала об этом мужа, — в вежливейшей своей молчаливости он не отвечал на этот вопрос: быть может, потому, что в сущности, это ей было не очень существенным и она позабывала настаивать. Яшмовые четки дней прошли. Бои — лакеи — теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки, так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне: — «говорят, Анри написал что-то новое?» — Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю. И у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным.
V…Вот и все. Тогда, в городе К., достав в консульском архиве автобиографию Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня на Поварской. Четвертую главку этого рассказа я написал — не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программою гимназий и что величие русской культуры — этого отъезжего поля — в уменьи размышлять. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений, полового акта: с клиническими подробностями был написан роман Тагаки-сана, — русским способом размышлять размышлял Тагаки-сан о времени, мыслях и теле своей жены. — Тогда на берегу моря, корреспондент столичной газеты, в разговорах с Тагаки-но-оку-сан с женой знаменитого писателя, — открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал, — она увидала себя, зажившую на бумаге, — и не важно, что в романе было клинически описано, как содрагалась она в страсти и расстройстве живота: — страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством всего, что было у нее. — И она запросилась — через консульство — обратно, домой, во Владивосток. Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию: вся она была написана и одним человеком, и в одно время, само собою, — и вот: те части автобиографии этой глуповатой женщины, где, неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие, и даже японские дни, — эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений, — но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, — для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени, — и она вернулась во Владивосток к разбитым корытам учительниц первоначальной школы.
VIВот и все.
Она — изжила свою автобиографию; биографию ее написал я, — о том, что пройти через смерть — гораздо труднее, чем убить человека.
Он — написал прекрасный роман.
Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы.
Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!
Узкое,
5 ноября 1926 г.
Олений город Нара
«Луна посыпала росу» — «полный месяц — длинный вечер, — ветер и луна — знают друг друга»: эти фразы подслушаны мною у японцев. И те вечера в Наре были очень лунны.
Тысячу триста лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина и сосновое — кажется — светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка и населен, кроме богов, памяти и людей, — теснее всего населен священными оленями, в честь которых — в сосновой тишине парка, под сосновым солнцем — многие уже столетия стоят храмы.
В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени, и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Будды Дай буцу, лотос под Дай буцу в шестьдесят девять футов окружностью, высота его в пятьдесят три фута, и усмешка его хранит непонятность всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длиннейшими горными тоннелями, — и вокруг города — горы, в зелени лесов сначала, а выше, там — в холоде камней. Сосновая тишина, олени да боги — горный ветер, бег оленей, да буддийские колокола — нарушают тишину этого города.
И в этом городе, около парка, над озером японцами для американцев построен отель — Нара-хотэру, — для тех американцев, которые на эмпрессах в шесть месяцев путешествуют вокруг Земного шара, чтобы осмотреть за этот срок мировые достопримечательности. Отель построен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесшумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми душами, покойней их гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего Шара, вплоть до русских «Известий» и «Красной нови», — и, хотя и написано в справочнике, что «комнаты (по-американски) 7,50 иен и дороже за сутки», — дешевле четвертного сутки там не получаются.
Я приехал в Нару, чтобы подслушать ее тишину, я поселился в Нара-хотэру, чтобы побывать в быте «эмпрессов», — и я поехал один, без переводчиков и друзей, — чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. Со мною была Ольга Сергеевна, человек, с которым я умею молчать. За моим окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы, к храмам, — оттуда ли звоны буддийского колокола и было совершенно верно, что «ветер и луна знают друг друга», потому что с гор в эту майскую ночь дул холодный и какой-то пустой ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Шопотом, по-русски, я порадовался, нашед «Красную новь». Кроме нас, в читальной сидели двое: я решил, что он швед, а она — француженка. Я листал «Красную новь», — и я увидел, что швед взял «Известия».
— Вы говорите по-русски? — спросил я.
— Да, немножко, — ответил он.
В первые десять минут мы с удивлением узнали, что оба мы писатели, — он передал мне свою визитную карточку: П. Г. — он был еврейским — из Америки — писателем, — американо-еврейским. Почти тридцать лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять, в тот ветер, который знает луну.
— И три моих нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими двумя прекрасными человеками, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне — и скорбью и нежностью. Не существенно, что оба они писатели, что она похожа на француженку, а он на шведа: существеннейшее мне — человечность.
Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине, полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком, неизвестными мне тропинками, — и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, — но спички тухнули в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые, — как булавки, растягивающие шелк на пяльцах, чтобы на шелке шить кружева, — устанавливают человеческие отношения. — Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад, да, серые его глаза были усталы и печальны и очень медленны. Она же, миссис Г., — была молода, черноволоса, обильноволоса и очень красива, и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-американски ко сну часа просидели мы на веранде, в синем лунном мраке и в ветре с гор, четверо в этом странном городке, мы двое в десятке тысяч верст от родины и от людей общего языка, они двое —