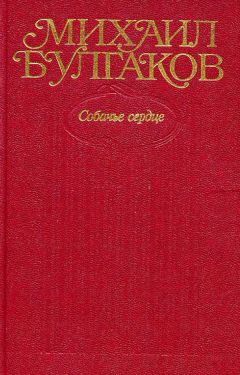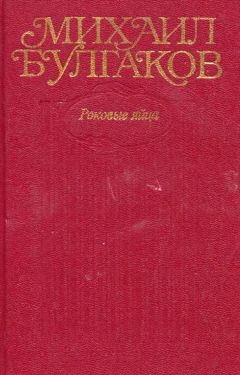Михаил Булгаков - Том 3. Собачье сердце. 1925-1927
Тут его глаз заметил на столе служебную бумагу. Деес развернул ее, прочитал и немедленно начал рыдать от радости.
— Оценили Дееса… Вспомнили… — бормотал он.
Он позвонил.
— Позвать моего помощника. Сидор Сидорыча, — заявил он курьеру.
— Идите, Сидор Сидорыч, к Ивану Иванычу, — сказал курьер помощнику.
— А что? — спросил помощник.
— Рыдают они, — пояснил курьер.
— Какого лешего рыдает?
— Не могу знать.
— Вот, черт его возьми, — гудел помощник, направляясь в кабинет по коридору, — минутки покою с ним нету. То он смеется, то рыдает, то бумаги пишет. Замучил бумагами, окаянный.
— Что прикажете, Иван Иваныч, — сладко спросил он, входя в кабинет.
— Голубчик, — сквозь пелену дождя сказал Деес, — радость у меня нежданная, негаданная, — при этом вода из Дееса хлынула в три ручья, — получаю я назначение новое. Недаром, значит, послужил я социалистическому отечеству на пользу… Церкви и отечеству на утеше… Тьфу, что я говорю! Одним словом, назначают меня. Ухожу я от вас…
«Слава тебе, господи, царица небесная, угодники святители, услышали вы молитвы мои, — думал помощник, — послал мне господь за мое долготерпение, кончилась каторга моя сибирская», — а вслух заметил:
— Да что вы говорите. Ах, горе-то какое! Как же мы без вас-то будем? Ах, ах, ах, ах, ах, ах, аха, ах! — «Зарыдать надо, шут меня возьми, а я не умею. С четырнадцати лет не рыдал, ах, чтоб тебе». — Он вытащил платок, закрыл сухие глаза, и наконец ему удалось взрыдать несколько ненатуральным голосом, напоминающим волчий вой.
— Кульеров зовите прощаться, — заметил совершенно промокший именинник.
— Вот уходит от нас Иван Иваныч, — искусственно дрожащим голосом заявил помощник и, пырнув курьера пальцем в бок, добавил тихо: «Рыдай!»
И курьер из вежливости зарыдал.
Из той же вежливости через пять минут рыдала вся контора Дееса.
Отрыдав сколько положено, она успокоилась и приступила к своим занятиям. Но дело этим не кончилось.
— А знаете что, Сидор Сидорыч, — сказал несколько просохший Деес, — ведь я со всеми не могу попрощаться, ведь мне сегодня ехать надо. Как же я расстанусь с дорогими моими сослуживчиками: конторщичками, телеграфистиками, машинистиками, бухгалтерчиками.
«Ой, опять взвоет, это же наказание», — подумал помощник. Но Деес не взвыл, а придумал великолепнейший план.
— Я с ними в письменной форме попрощаюсь. Будут они помнить меня, дорогие мои товарищи по тяжкой нашей работе на устроение нашей дорогой республики…
И тут он сел за стол и сочинил нижеследующее произведение искусства:
«ТОВАРИЩИ!
Получив назначение и не имея возможности лично распрощаться со всеми вами, прибегаю к письменному прощальному слову.
Товарищи рабочие и служащие, проработав вместе с вами более года в непосредственной, низовой, практической, кропотливой, мелкой, но трудной станционной работе, должен отметить то, что отмечалось и до меня несколько раз в нашей советской печати, а именно: лишь только при совместной дружной работе с широкими рабочими массами каждый руководитель может улучшить свое хозяйство, это — в частности, а в общем рабочий класс обязан все советское хозяйство перестроить на новых, наших, пролетарских, началах, т. е. чем скорее восстановит он свое хозяйство, тем скорее улучшит свое личное благополучие и через посредство этого героического неослабного трудолюбия трудящихся…» и т. д. и т. д.
Прошел час, а Деес все еще писал:
«…Уезжая от вас (здесь бумага заляпана слезами), разрешите, товарищи, надеяться мне, что и в дальнейшем вы, рабочие и служащие, как один, будете всемерно поддерживать свой авторитет перед администрацией управления, и не только свой, но также администрации станции, через посредство честного отношения к своим порученным обязанностям, помня, что к отысканию единого правильного делового пути в работе станции с целью достижения еще большего улучшения в рабочем аппарате и удешевления себестоимости нашей добываемой продукции, т. е. перевозки пассажира-версты и пудо-грузо-версты, мы должны быть все вместе, как один, и тем самым добиться устранения препятствий в правильном обслуживании широких трудящихся масс, а в том числе, следовательно, и самих себя в отдельности, а также доказать свою незыблемую преданность интересам рабочего класса СССР»…
Написав весь пудо-груз этой ерунды, Деес, чувствуя, что у него в голове у самого туман, добавил вслух:
— Кажется, здорово завинчено. Что б такое еще им приписать, канальчикам, чтоб они меня помнили? Впрочем, и так хорошо будет.
«Пожелаю вам, товарищи, всего хорошего. До свидания. С товарищеским приветом. Иван Иваныч», — приписал Деес, вместо печати накапал слезами и добавил вверху бумаги:
«Прошу каждого из адресатов по своим конторам объявить сотрудникам».
После этого он надел калоши, шапку, шарф, взял чемодан и уехал на новое место службы.
А по всем конторам три дня после этого стоял вой и скрежет зубовный, но уже не поддельный, а настоящий. Начальники контор сгоняли сотрудников и читали им вслух сочинение Дееса.
— Чтоб его разорвало, — говорили сотрудники неподдельными голосами, но шепотом. — Ни одного слова нельзя понять, и какого он черта это писал, никому не известно. Ну, слава тебе господи, что он уехал, авось не вернется.
На чем сидят люди
По материалам рабкора № 2161
Бывают люди серьезные, а бывают такие, которые, что ни сделают, выходит ерунда. Например, который страхкассу при станции Рязань Казанской поместил зачем-то наверху, во втором этаже.
Туда инвалиды ходят гражданских фронтов и лезут наверх, при этом, конечно, ругаются словами неприличными.
А обратно гораздо интереснее.
Я как-то вхожу и слышу грохот и вижу… бежит сверху костыль с ручкой, обернутый тряпкой. Прыгнул влево, потом вправо и при этом стукнул в зубы какого-то профработника так, что тот залился слезами, как дитя и, наконец, выбежал на парадный ход прямо к извозчику. Как, якобы, живой костыль.
Я кричу:
— Какой дьявол швыряется костылями?
И слышу голос с неба:
— Я тебе не дьявол…
И вижу — несется со страшной скоростью инвалид, проливавший кровь, несется, на чем люди сидят, по перилам и на каждом повороте кричит, чтобы кого-нибудь не раздавить.
Потом съехал очень ловко и сел у парадного хода со словами:
— . . . . . . . . .ь.
Спрашиваю:
— Почему ты ездишь, а не ходишь?
— А ты что, слепой? (это он говорит) — Ты видишь, у меня ноги нет? Я могу ходить только по ровному месту, а тут какая-то бесхвостая собака кассу загнала на второй этаж!
В это время сверху летит второй работник ответственного вида, спасаясь от костыля.
За ним вприпрыжку костыль, за костылем шапка, за шапкой — краюха хлеба, каковая вскочила в подвал, в заключение, как вихрь съехал инвалид.
Но он не так, как первый, удачно, а с криком:
— Не угадал, братцы!
Проскочил в окно, не оставив ни одного стекла, и прямо на улицу.
Вследствие чего кассу нужно перевести на первый этаж.
Письмо списал ЭМ. БЕ.
«Гудок», 21 октября 1925 г.
«Вода жизни»
Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.
Все, что здесь доступно оку (как говорится),
Спит, покой ценя…
В это-то время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:
— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..
— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.
Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:
— Соскучились, ребятишки?
Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:
— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?
— Агародами… Там сугробы, — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.
С победоносным криком: «Номер первый — ура!!!» — он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:
— Что б ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.
Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал: