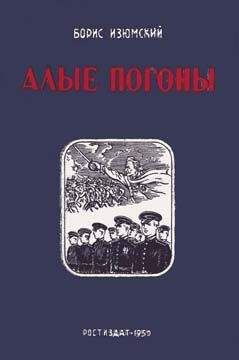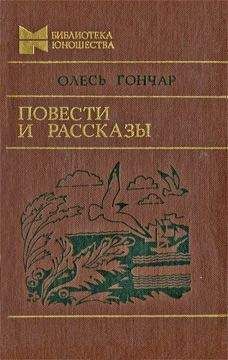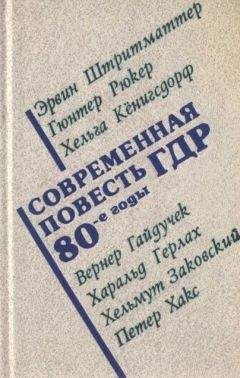Борис Изюмский - Путь к себе. Отчим.
— Да. На вращающемся кресле Барани я себя чувствую неплохо.
Покосился в сторону матери:
— Пора подумать о парашютных прыжках…
— Лучше подумай о русском языке, — посоветовала мать.
— В следующий вторник, — будто не расслышав замечания матери, продолжал Сережа, — мы поедем в гости к летчикам… Нам разрешат примерить высотные костюмы, гермошлемы…
— Это интересно, — сказал отец.
— Ты знаешь, мой ракетоплан взлетел на триста шесть метров, — оживляясь, повернулся лицом к нему Сережа.
— Уже недурно…
— Маловато… Летом ведь всесоюзное состязание на приз имени Юрия Гагарина. Мы готовим действующую модель «Малый Байконур» с дистанционным управлением. Представляешь, маминушка, — немного даже заискивая, сказал Сережа, — в космическое пространство сейчас выходят в скафандрах с новой системой регенерационного типа. А наклонение орбиты — пятьдесят один градус сорок одна минута.
Раиса Ивановна поглядела недоуменно, ответила, немного подтрунивая:
— Тебя в цирке можно показывать, как запрограммированное устройство…
Сережа вдруг обиделся:
— Все это знает любой приготовишка.
— Ну, не сердись, мне даже нравится такая одержимость…
Сереже и слово «одержимость» не пришлось по душе.
— Я же не удивляюсь вашим вечным разговорам с отцом о консолях и интерьерах!..
«Нет, он растет не узким человечком. Вот увлекся в школе драмкружком, играет в чеховском „Трагике поневоле“ отца семейства, а Ремир — Мурашкина. Уму непостижимо: Сережка — и вдруг артист. Сколько кутерьмы было, когда добывал накладные усы и бороду, коробку для шляпок. А как вопил на весь дом: „Я вьючная скотина… тряпка, болван, идиот! Крови жажду, крови!“»
— Я — за увлеченность! — сдалась мать.
Глава двадцатаяМайский ливень исхлестывает землю, мчатся бурные потоки по мостовой, к Дону, а дождь припускает все сильнее и сильнее.
Сережа стоит у окна, с тоской смотрит на лужи, на водяную сеть над рекой. Вон катерок потащил на буксире неисправную «ракету». Какой униженный вид у «ракеты». Сереже надо идти на субботник: он дал слово и Варе и Таисии Самсоновне, а мама не пускает, и он себя чувствует тоже униженным.
— Должен пойти, — настойчиво повторяет Сережа, — понимаешь, должен.
— Только безумец может идти в такую погоду, не будет ни одной души!
Виталий Андреевич, до сих пор молча что-то вычислявший, поднял голову:
— Пусть он будет один.
— Кому и что он этим докажет? — протестующе воскликнула Раиса Ивановна и вышла из комнаты.
Сережа пошел за ней.
— Ну, маминушка, — как можно ласковее, тихо сказал он и по старой привычке неуклюже ткнулся носом в ее плечо: — Какая же это педагогика: отец говорит одно, ты — другое…
Раиса Ивановна метнула на сына быстрый взгляд:
— Ну, если тебе уж так страшно хочется — иди, мокни. Только имей в виду, лечить я тебя не буду. Плащ надень! — крикнула она вслед кинувшемуся к дверям Сереже.
— Надену, надену.
Раиса Ивановна возвратилась в комнату, стала у окна. Дождь почти прошел.
— Паршивец! — возмутилась она. — Несет плащ в руке!
Виталий Андреевич подошел к ней, обнял:
— Дорогая наша маминушка, а ты в юности на субботники ходила?
— Еще как!
— И дождь тебя не останавливал?
— Даже землетрясение!
Они рассмеялись.
— Но сейчас время другое, — еще продолжала сопротивляться Раиса Ивановна.
— Сомневаюсь. В главном — время то же самое. И в этом не надо нам его менять…
Сережа ехал в трамвае к Сельмашу. Вот уже слева осталась площадь Карла Маркса, парк с мемориалом погибшим в войну.
Отец недавно возвратился из Москвы. У них там, в сквере возле Большого театра, была встреча фронтовых товарищей — летчиков. Приехал помолодевший, торжественный, долго рассказывал о своих друзьях, потом спросил:
— Ты думал о службе в армии?
Он ответил:
— Думал…
— Ну и что?
— Постараюсь быть хорошим солдатом…
А вон у остановки и вся братия, Рем, Варя в голубой косынке и полотняном платье с оторочкой, как у авиаконверта…
Сережа улыбнулся этому неожиданному сравнению: «В блокнот Рема, он собирает художественные детали!» И спрыгнул с трамвая:
— Салют работникам коммунистического труда!
…Он возвратился измокший, с захлюстанными брюками и туфлями, но счастливый.
В доме пахло жареным мясом и картошкой.
— Зверски хочу есть!
— Редчайший случай! — удивилась мать.
— Мы строили «Варенишницу» возле Сельмашевского вокзала.
— Ого, куда вас занесло!
— Ребята работали, как дьяволы. Даже Ханой. Он был в моей бригаде. Прораб объявил нам благодарность.
— Ну ладно, садись, труженик, за стол.
В кухне Сережа продолжал оживленно болтать:
— Экзамен по литературе через семнадцать дней первого июня. Ничего себе, хорош день защиты детей! Ты знаешь, во время экзаменов повышается процент сахара в крови!
Наевшись, Сережа встал:
— Пойду посочиняю…
Работая на стройке, он окончательно продумал текст письма «бывшему отцу». Мысль об этом его давно мучила. Надо настоять все же на перемене фамилии. Пора кончать!
Сережа достал лист линованной бумаги и одним духом написал:
«Станислав Илларионович!
Я хочу носить фамилию родителей, которые меня воспитывают, и прошу в просьбе мне не отказать.
Сергей».
Сережа лежит в постели. В соседней комнате горит настольная лампа; отец уехал в командировку, и мама работает за его столом.
Сережа плотнее сжимает веки, но сон не приходит. Во взбудораженном мозгу проносятся картины дня.
В перемену Передереев нашел в своей парте учебник по литературе — кто-то из другого класса забыл.
Передереев, не любивший литературу, стал один за другим выдирать листы из книги и разбрасывать их вокруг себя. Вот лег на пол лист с портретом Пушкина, вот рядом — «Песня про купца Калашникова». Сережа не выдержал, встал над Передереевым, решительно потребовал:
— Кончай погром!
Передереев угрожающе приподнялся, но рядом очутился Ремир. Лицо его побледнело от гнева, Сережа ни разу не видел его таким.
— Вандал! Ты вандал!
Передереев забормотал:
— Вандал-мандал! Ничейный он!
…Хороший парень Рем. Дружба с ним многое дала Сереже. Сделала взрослее и… богаче. Да, богаче.
Но как еще мизерны его богатства!
Он почему-то представил земной шар: летит куда-то в огромном океане. Век — мгновение… И его, Сережи, не будет, а Земля продолжит свой извечный полет…
— Мам! — позвал Сережа.
— Ты еще не спишь? — удивилась Раиса Ивановна.
— Нет. Иди сюда.
Раиса Ивановна села на кровать, провела теплой ладонью по его волосам:
— Ну что, сыночка?
— Я, мам, сейчас подумал, какие же мы песчинки в мирозданье.
Раиса Ивановна не удивилась этой фразе, поняла настроение сына.
— Из песчинок создан гранит, — сказала она, продолжая гладить Сережу по волосам.
— А вода и ветер разрушают гранит, — задумчиво сказал он, — все имеет свое начало и свой конец… Значит, будет и конец Вселенной…
— Зачем же так мрачно? Ты же читал мне Циолковского: «Люди достигнут иных солнц и воспользуются их свежей энергией взамен своего угасшего светила».
— Обидно… человеку отведено так мало жизни…
— И за этот малый срок, Сереженька, можно оставить значительный след на Земле…
— А время все сотрет…
— Человек с Земли унесет на другие планеты все лучшее.
— Прожить хотя бы двести-триста лет. Представь, если бы Пушкин поднялся и увидел самолеты, телевизор, узнал о телефоне, радио, телеграфе… И мне хочется заглянуть хотя бы в двадцать второй век!
— Ну, спи, спи, мой мечтатель!
«Надо менять отношение к этому человеку, — думает она, — решительно менять. Заглядывать чаще не в школьный дневник, а в душу».
— Спокойной ночи, маминушка.
Сережа сбросил простыню и выскочил на балкон.
День открывали мотороллеры. Натужно взвывая, они тащили по взгорью Буденновского проспекта, с речного вокзала, на базар коляски, груженные до отказа набитыми мешками. Казалось, доносился запах свежей капусты и огурцов.
Начинали скрести своими метлами дворники. Первые лучи солнца подрумянили зеленые купола собора. На нежно-розовом небе ракетой, замершей перед стартом, вырисовывалась телевизионная вышка на горе.
Синие языки разлива протянулись к Задонью. Сочная зелень затопила город и берега. Шли вверх к Цимлянскому морю баржи. У строящегося жилого дома, возле института рыбного хозяйства, позванивал желтый, похожий на жирафа кран, втаскивая на этажи бетонные плиты.
Стоя на балконе, Сережа мог, не глядя на часы, довольно точно назвать время. Вот хлынул поток людей, спешащих к зданию ТЭПа, значит — 8.20; вот бегут вечно запаздывающие на минуту пассажиры на «метеор», значит — 8.25.