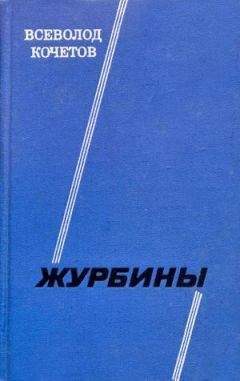Всеволод Кочетов - Молодость с нами
— Кто, товарищи, за то, чтобы дать Журавлеву строгий выговор? — спросил Коля Осипов.
Оля вместе со всеми машинально подняла руку, и в этот момент ее глаза встретились с глазами Журавлева. Журавлев усмехнулся не то жалостливо, не то презрительно. У Оли зазвенело в голове, так смутил ее этот взгляд. Чтобы скрыть свое смущение, она сказала: «Безобразный поступок!» Голос ее прозвучал где-то далеко, был он чужой, она чувствовала, что говорить ничего не надо было, что говорит чепуху, от этого стыд усилился; в довершение оказалось, что все уже давно опустили руки, а она свою все еще держит поднятой.
Журавлев вышел. Оля посидела с полминуты и, не в силах сидеть дальше, тоже выскользнула в коридор. Она догнала его уже на лестнице.
— Журавлев, послушайте, — сказала она, — я вам сейчас все объясню.
Журавлев посмотрел на нее хмурым взглядом и сказал:
— Эх вы, блюстительница!
Он вышел на улицу. Бежать рядом с ним по улице и пытаться что-то на ходу объяснять было немыслимо. Да и что объяснять? Что она может объяснить? И вообще, зачем она вышла, что ее подняло и погнало вслед за этим чужим человеком? Оля осталась в вестибюле, медленно поднялась по лестнице. Заседание бюро продолжалось еще часа два. Оля этих часов уже не заметила, она хотя и сидела на прежнем своем месте за столом, но занята была совсем не тем, о чем тут говорили. Ее мучил стыд за эту идиотскую фразу: «Безобразный поступок!» Она говорила себе: «Иди, иди, дура, попробуй сначала сама совершить такой поступок. А когда совершишь, тогда и рассуждай».
Домой она пришла поздно, потому что после райкома заехала в институт. Павлу Петровичу и Варе сказала, что у нее очень болит голова, есть ничего не стала, легла в постель. Поднялась только тогда, когда Павел Петрович и Варя тоже легли, накинула халат и пришла в комнату Павла Петровича.
— Папочка, ты не спишь?
— Нет, доченька. А ты что маешься? Назаседалась сегодня?
— Папочка, сегодня мы дали строгий выговор одному комсомольцу, и вот я не знаю, правильно дали или неправильно.
Слышно было, как Павел Петрович повернулся в постели и щелкнул выключателем настенной лампочки. При вспыхнувшем свете Оля увидела добрые отцовские глаза.
— Садись сюда, — пригласил Павел Петрович, — и послушай меня. Года за три до того, как ты родилась, мы исключили из комсомола одну девочку. Были у нее такие круглые-круглые, синие, веселые глазки, две тонкие косички, а еще она красила губы и ходила танцевать. Мы ее за это и исключили — за губы, за танцы и, кажется, за косички. Мы говорили грозные страшные речи, мы сказали: «Вынь и положь на стол свой комсомольский билет». Руки у нее дрожали, когда она доставала из сумочки этот, наверно, очень дорогой для нее билет. Потом она бросила его на стол передо мной, крикнула: «Дураки, дураки!» — и выбежала.
Павел Петрович умолк раздумывая.
— Ну и что? — спросила Оля.
— Ну вот до сих пор у меня в ушах эти «дураки».
Павел Петрович снова умолк. Оля видела, что он улыбается своим мыслям, вспоминает, может быть, о чем-то из своей юности. Она не стала расспрашивать, чему он улыбается и о чем думает. Ее волновала возникшая вдруг неприятная мысль. Неужели и ей всю жизнь суждено помнить это убийственное: «Эх вы, блюстительница!»
2Областной комитет партии согласился с предложением Павла Петровича, не возразило и министерство, и Алексея Андреевича Бакланова назначили главным инженером института. Заняв новое для него место, Бакланов взялся за дело с такой энергией, которая удивила даже Павла Петровича, хотя Павел-то Петрович больше, чем кто-либо, предполагал эту энергию в Бакланове.
Бакланов, подобно Павлу Петровичу, был человеком необыкновенно аккуратным и точным. Если они сговорились с Павлом Петровичем встретиться где-либо в десять часов и двадцать три минуты, то они так и встречались — в десять часов и двадцать три минуты. Когда это случилось в первый раз, Павел Петрович сказал, взглянув на часы: «Вы абсолютно точны, Алексей Андреевич. Очень и очень приятно». Бакланов ему ответил: «Не то Людовик Восемнадцатый, не то Карл Десятый говорили, что точность — вежливость королей. Для нас, не королей, она гораздо больше, чем вежливость».
В тот день, когда в институте был объявлен приказ о назначении Бакланова заместителем Павла Петровича, они вдвоем просидели в директорском кабинете до часу ночи. Сторожиха тетя Настя шесть раз кипятила им чай. Они поговорили о многом, коснулись даже собственных биографий. Бакланов со вздохом сказал, что биография Павла Петровича гораздо интереснее его, баклановской. У него, Бакланова, ничего примечательного в биографии нет. Родители: отец — провизор, мать профессии не имела. Он окончил среднюю школу, потом институт. Работал инженером на заводе, заведовал заводской лабораторией, за несколько лет до войны пришел сюда, в институт металлов.
— И, выходит, — сказал он смеясь, — пожар, во время которого я чуть не сгорел в детстве, единственно примечательная страница в моем жизнеописании.
— Сомневаюсь, — возразил Павел Петрович. — А степень доктора технических наук, а Сталинская премия, они разве не связаны с иными примечательными страницами? Мне, например, известны эти страницы. Мне известно, что в годы Отечественной войны под вашим, Алексей Андреевич, научным руководством сибирские сталевары ответственнейшую пушечную сталь плавили в мартеновских печах емкостью до трехсот пятидесяти тонн. Это было смелым шагом…
— Что было, то было, — ответил Бакланов. — Кстати, далось это нелегко. Приходилось преодолевать множество препятствий. Вы же сами, Павел Петрович, сталеплавильщик, и, конечно, вам известны довоенные работы некоторых авторитетов, в которых авторитеты доказывали, что мартены большой емкости не только для выплавки особых марок стали, но и вообще-то не годятся. Перед самой войной была опубликована специальная работа, автор которой задался целью доказать, что мартеновские цеха с печами емкостью более двухсот двадцати тонн строить нецелесообразно.
— Да, я знаю эту работу. Она многих из нас, практиков, запутала.
— Вот видите. И нам, научным работникам, в ту пору очень молодым, трудненько приходилось в борьбе с предельщиками.
О чем бы они ни вспоминали, о каких бы из любых своих прошлых работ ни заговаривали, оказывалось, что ни одна работа не протекала без борьбы. Непременно надо было доказывать свою правоту, непременно преодолевать сопротивление, непременно наступать, если ты хочешь победы.
— Жизнь! — философски сказал Бакланов, прихлебывая чай из очередного, поданного тетей Настей стакана. — Одно отживает, уходит в прошлое, другое нарождается, приходит ему на смену. Но отживающее не хочет уходить добровольно, оно сопротивляется, ему хочется существовать, оно цепляется за существование. Ужаснейшая бывает борьба. Ужаснейшие она принимает формы.
— Вот тут как раз о жизни и борьбе, — сказал Павел Петрович, извлекая из стола объемистую папку. — Нам придется, видимо, выдержать большую борьбу. Это тематический план. Мы говорили на ученом совете о том, что некоторые темы никуда не годятся, решили их пересмотреть, но ничего пока не сделали. Давайте, Алексей Андреевич, возьмемся. Одни темы надо вовсе ликвидировать и необходимость их ликвидации доказать перед министерством. Для решения других — найти более эффективные формы.
В последующие дни директор института и его новый заместитель вместе с заведующими отделов и лабораторий занимались пересмотром тем. Тематический план сильно изменялся, изменялось его направление — он приобретал крен в сторону наибольшего, какое только возможно, разрешения вопросов, волнующих работников производства. При отчаянном сопротивлении Красносельцева, при странно молчаливом нейтралитете Серафимы Антоновны ученый совет одобрил изменения в планах научной работы и признал целесообразность всех практических мер, которые принимало руководство. На ученом совете рассматривали заявки на новые темы. Обсудили и доклад Ратникова. Тему признали очень важной, но решили, что один Ратников с ней не справится и что надо создавать группу по типу той группы, которая создается Баклановым для решения проблемы жаропрочной стали.
Новый тематический план, заявки на новые темы, решение ученого совета были посланы в Москву, в министерство. Сомнений в том, что все разумные меры будут и там одобрены и утверждены, не было. Поэтому, не ожидая ответа из Москвы, дирекция предупредила всех, кого это касалось, о том, что в их жизни и работе возможны изменения. Беседы с теми сотрудниками, которым предстояло свертывать свои работы как бесперспективные, как неправильно ведущиеся или просто устаревшие, вели то Павел Петрович, то Бакланов, а в особо сложных случаях и оба вместе.
Бакланову было очень трудно работать. Горячо берясь за руководство научной работой всего института, он одновременно вел и свою тему. Вокруг него уже создалось ядро будущей группы, которой предстояло работать над жаропрочной сталью.