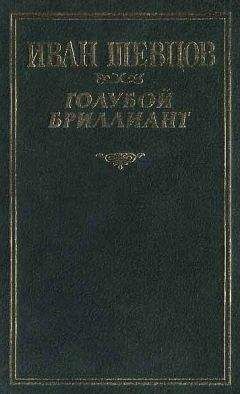Иван Шевцов. - ТЛЯ
– Значит, эти «Мародеры» неоригинальны, – заметил Карен и спросил: – Ну, а что же у Барселонского нового, своего?
– А этого тебе мало? – Владимир с усмешкой показал на пестрые пейзажи, акварельные портреты, каких-то хлыщей и модниц, зеленоволосых, фиолетовоносых и оранжевощеких. – Было бы лучше, если бы Лев Барселонский остался художником одной хорошей картины – «Счастье Марии Ткаченко», – которой здесь нет.
Две пожилые дамы обернулись в его сторону с презрением. Они как раз восхищались зеленоволосыми и оранжевощекими портретами. Окунев посоветовал Еременке:
– Говори, Петя, потише, не накликай гнев поклонниц, которые без ума от этих дырявых сараев, поваленных заборов и грязных луж.
– Вы что, серьезно? – спросил вдруг откуда-то появившийся Борис. – Изумительные полотна! Да кто ныне у нас так пишет? Чудесные пейзажи!
Пейзажей было хоть отбавляй, в разных вариантах: «После дождя», «Перед дождем», «Дождь прошел», «Утро», «Вечер», «Полдень».
– Попробуй докажи, что это утро, а не вечер, – заметил Машков, но Карен возразил ему:
– Ты слишком уж строг, Володя. Написано недурно, старик умеет… А что утро от вечера не отличишь, так ведь и у других…
Еременко перебил его:
– Поленовские пейзажи, например, вовсе не нуждаются в этикетках, а тут докажи, что это утро или полдень. И вообще, кому нужно такое искусство? Вон тем снобам?
Вокруг приятелей собралась порядочная толпа зрителей. Вдруг один из них, пробравшись поближе к Еременке, спросил:
– А, собственно, какое вы имеете право выступать от имени народа? Кто вас уполномочил?
Это был поэт Ефим Яковлев, завсегдатай «салона» Осипа Давыдовича Иванова-Петренки.
– А разве он выступает? – вмешался Окунев. – Он просто вслух говорит свое мнение. Вам обидно, что товарищ не разделяет ваших восторгов? – И повернулся к Яковлеву своей широкой спиной.
В толпе начинали гудеть: «Это безобразие!», «Хулиганство!»
А Лев Барселонский, торжественно-величавый, усталый, с воспаленными глазами и преувеличенным равнодушием на лице, стоял поблизости, беседовал с одним из своих приятелей и делал вид, что не слышит своих хулителей. Борис Юлин, косясь в сторону Барселонского, сказал друзьям:
– Нельзя ли потише… Лев Михайлович все слышит!
– Пусть! – возразил Владимир. – Тем лучше для него. А я не собираюсь ни от кого скрывать своих мнений. О любви и неприязни я прямо говорю.
– И давно ты таким стал? – Борис с вызывающей улыбкой наступал на Машкова.
– Представь себе, в этом году.
– Свои симпатии и антипатии вы можете высказывать дома, а здесь они никого не интересуют, – снова вмешался в разговор Ефим Яковлев.
– Вас-то, выходит, очень даже интересуют, – ответил Владимир.
Поблизости оказался академик Камышев.
– Здравствуйте, Михаил Герасимович! – кинулся к нему Юлин. – Вы, должно быть, слышали наш спор, рассудите, скажите свое мнение о новых работах почтенного Льва Михайловича.
– А зачем вам мое? Надо свое иметь! А что касается спора, то я голосую за спор. Мы очень мало спорим и еще меньше критикуем друг друга. – Старик встряхнул пышной, хорошо сохранившейся к семидесяти годам шевелюрой и, заметив Владимира, сказал в его сторону:
– Вот он замечательную картину из деревни привез. Прямо-таки кусок сегодняшней жизни. Надо выходить из мастерских на волю, на простор. Тогда меньше будет худосочных, парниковых выдумок.
Сказав это, Камышев красноречиво провел глазами по работам Барселонского и двинулся в следующий зал. Юлин поспешил за академиком.
Карен покачал головой, приговаривая:
– Видали, Борька-то петушком, петушком…
– Подлизывается. На это он мастер, – сказал Павел.
А Барселонский щедро раздаривал направо и налево поклоны и покровительственные улыбки. Владимир нашел, что с его лица исчезла деланная усталость, в глазах блестели холодные и недоверчивые огоньки. Он, должно быть, понимал, что ожидаемого триумфа не получилось, но не хотел подавать вида, принимая как должное дежурные комплименты знакомых художников, литераторов и артистов-Владимира удивляло, как этот желчный, раздражительный старик может так спокойно и весело держать себя, когда всем ясно, что работы его не нравятся публике.
– Великий артист, этот Лев, – сказал он Окуневу. Павел не понял его слов и возразил:
– Ничего тут ни артистического, ни нового. Просто изнанка модернизма. – Еременко добавил:
– Гвоздь выставки оказался ржавым.
Ни смотреть на «шедевры» Барселонского, ни, тем более, говорить о них больше не хотелось, и друзья гурьбой перешли в другой зал.
К картине Машкова нельзя было протолкаться. Ее хвалили. Владимиру запомнилась фраза худощавого человека в очках с золотой оправой. Он внушительно говорил пожилой полной женщине:
– На этом полотне – печать глубокой мысли и большой любви к человеку.
– А что, верно ведь? – согласился Петр.
Но тотчас же они услышали совершенно другое:
– Слабовата по живописи. Однотонна. Желтизны много…
И в другой стороне голос:
– Главный герой – на втором плане, это нехорошо…
Еременко не выдержал:
– Ерунда какая! У Иванова Христос на пятом плане, но все взоры обращены к нему.
На громкий негодующий голос Еременки обернулся человек, хуливший картину «Прием в партию». Лицо его ничего не выражало: глубоко вставленные маленькие мутные глаза, серые, помятые щеки, жиденькие черные брови… Разве только о пестрый галстук мог споткнуться взгляд. Взглянув на него, Еременко процедил:
– Вот такие часто и навязывают свои мнения худсоветам.
Пошли дальше.
Владимир остался. Ему хотелось послушать мнение зрителей.
– Уже все ясно: успех полный, – убеждал Петр.
– Что ты! – воскликнул Владимир. – Не слыхал разве?
– Пустяки, – уверил Еременко. – Подумаешь, какой-то плюгавый критикан сболтнул сам не зная что!
Но Машков не был склонен пренебрегать критическими замечаниями.
– Вспомни, – попросил он Еременку, – как Гоголь относился к критическим замечаниям людей враждебных. То, чего не заметит благосклонный глаз друга, то не пропустит озлобленный, пристрастный глаз недруга.
– Умная мысль, – поддержал Карен.
– А Пчелкин поступил несерьезно, – вдруг сказал Павел – Зачем выставил «Горького на Волге»? Ведь говорили ему, что вещь не доработана. Прямо носом ткнули в недостатки. Тут уж действуй по пословице: «Коль двое говорят, что ты пьян, – ложись спать».
– Наверно, доводы Винокурова оказались сильней наших, – сказал Еременко со злостью. – А может, это вызов? Своего рода программа? – вопросительно посмотрел он на товарищей.
Ему не ответили.
Легкий на помине появился Пчелкин. Обращаясь к Владимиру, сказал по-отечески наставительно:
– Смотри не зазнайся! – Владимир спросил его:
– А как тебе нравится Барселонский? – Николай Николаевич, щурясь, оглядел стены, сказал неопределенно:
– Что ж, в них (имелись в виду акварели) что-то есть… Во всяком случае, для Барселонского это необычно.
– Но тебе-то нравится? – настойчиво допрашивал Владимир.
– Видишь ли, «нравится» – это дело вкуса, а о вкусах, как ты знаешь, не спорят. – И дружески улыбнулся.
– Это кто сказал, что о вкусах не спорят? – спросил Еременко.
– Французы, – ответил Пчелкин.
– Вот именно, – заметил Машков, – потому-то они первыми и начали губить искусство.
– Нет, дорогой Николай Николаевич, будем спорить, – уже серьезно заговорил Еременко – Будем отстаивать здоровый вкус и здоровое искусство. Будем за него драться.
К друзьям подошел опять Борис Юлин. Он снисходительно кивнул на портрет колхозника Вишнякова, написанный Машковым.
– Хорош старик, с характером! – И тут же, без перехода – Ну, а как мои девки после доработки? – За всех ответил Вартанян:
– Да, собственно, ты их только переобул, а в остальном…
По лицам приятелей Борис понял, что картина им не нравится, но не смутился и заговорил бойко и самоуверенно:
– Винокуров упрекает меня за то, что нравится Иванову-Петренке. Не поймешь, кому верить. Лучше, кажется, только себе. Впрочем, Михаил Герасимович Камышев находит, что в моей картине есть что-то общее с Пчелкиным.
– Да это и все находят, – в тон сказал Окунев.
По его голосу трудно было определить отношение к картине, но Борис и не очень-то дорожил мнением Павла. Еременко добавил к словам Павла: