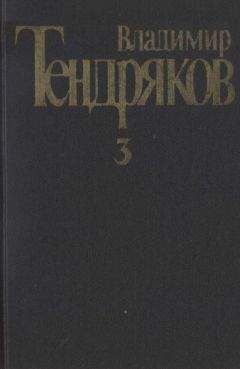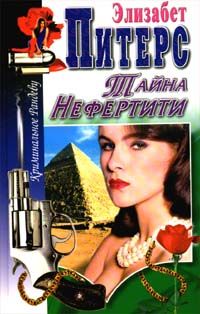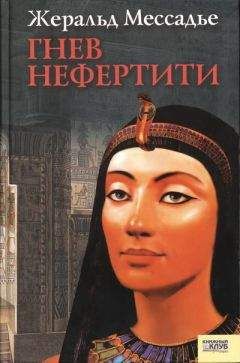Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
До сих пор Федор был на стороне Вячеслава — против слепой веры. Но сейчас Вече говорит Федору: забудь напрочь себя, живи для правнука. А у этого правнука будут свои правнуки. Неужели человек так и будет жить одними миражами будущего? В этом есть какая-то угнетающая несправедливость — ты удобрение! Глашатаи прекрасного будущего — какое право имеют они с таким презрительным высокомерием относиться к тебе?
И вид Вячеслава не понравился вдруг Федору. Вышагивает по набережной — добротные ботинки на меху, мягкие кожаные перчатки, велюровое пальто. У него папа не Василий Матёрин, мужик из деревни, а признанный художник, он не забывает сына. А сын проповедует голод во имя сытости праправнуков. Кому? Православному, который в жизни больше питался сомнительными идеями, чем хлебом насущным.
Федор твердо сказал:
— Неувязочка, Вече.
Вече с любопытством скосил глаза:
— Ого! Мудрый сфинкс из деревни Матёра разомкнул уста.
— Лупи его с тылу, старик.
— Ты сказал: пусть сейчас будет кровь, чтоб потом эта кровь не хлестала?..
— Сказал и на том стою.
— Потом, за пределами моей жизни?
— Может быть, и за пределами… Твоей, моей…
— При этом ты хочешь, чтоб у меня не было слепой веры?
Вячеслав насторожился, суженным зрачком ловил взгляд Федора, а Федор продолжал:
— Для того чтобы у меня была твердая вера, нужно подтверждение. Пусть идея проявляет себя каждодневно, чтобы я начал убеждаться, что крови льется все меньше и меньше, — проявляет себя сейчас, а не после моей смерти. Почему я должен слепо верить?!
— И не допускать сомнений! — подхватил Лева Православный. — Старик, я снимаю перед тобой шляпу. Ты уложил наповал этого спесивого вояку. Эй, рыцарь! Подымись! Возьми в руки выбитую шпагу.
Вячеслав Чернышев молчал.
Лева Православный вскинул обтрепанные рукава к небу, и над черной водой Москвы-реки раздался вопль:
— Виктория! Виктория!
Вячеслав рассмеялся:
— Ты-то чего радуешься, брат во Христе? Сфинкс прокусил мне жилу, не ты.
Позади шагала шумная компания, все время, пока шел спор, за спинами раздавались взрывы смеха. Сейчас эта компания — мужчины в синих плащах и шляпах, женщины в пальто с наращенными плечами — поравнялась со студентами. Впереди важно выступала простоволосая женщина в зеленом пальто. У нее было полное мясисто-красное лицо, в топорных чертах какая-то величавая угроза, с такой дамой опасно затевать ссору возле кухонной плиты — все равно выйдет победительницей. Проплыла мимо, застывше и важно глядя прямо перед собой.
И все узнали в ней ту, что выскочила из колонны к Мавзолею, и всем почему-то стало стыдно. У Левы Православного во всей его расхлюстанной фигуре появилось знакомое выражение провинившегося кобелька. Он трусил рядом с Вячеславом и смущенно на него поглядывал. А Вячеслав, сжав губы, шагал, хмурился.
Только в переулке возле Музея изобразительных искусств он обронил:
— Неужели мы все верующие слепцы? А?..
18Холст, натянутый на подрамник, и перед ним ты, студент первого курса. Холст, натянутый на подрамник, и скуластый, желтолицый человек в черном костюме на возвышении. Ты его пишешь, его скулы, его руки, его манишку переносишь на свой холст. Значит, он диктует тебе, значит, ты ему подчиняешься…
Подчиняться? Переносить бездумно и добросовестно все, что видишь, — желтое красить желтым, черное — черным? Нельзя быть фотографом, не смей копировать — эту нехитрую истину тебе уже накрепко вдолбили.
Тогда, может, ты свободен от скуластого? К черту его указания, твори что хочешь, можешь желтое превратить в розовое, черное в лиловое, красное в зеленое. Кто хозяин холста — он, скуластый, или ты?
Но зачем он сидит перед тобой? Зачем ты жадно вглядываешься, в него? Не он ли направляет твою руку?
Свободен ты или нет? Господин ты или раб?
Стоит перед тобой натура, сидит на возвышении остроплечий, старомодно-чопорный человек, у него не очень здоровый цвет лица, тупые скулы, тонкие губы, белые манжеты оттеняют смуглые руки. На возвышении перед твоими глазами — частичка природы. А в природе нет хаоса, одно связано с другим, в природе — гармония. И этот чопорный человек в черном костюме по-своему гармоничен. Попробуй что-то самовольно изменить в нем, попробуй при блеклом лице и тонкой, словно куриная лапа, шее представить плечи грузчика или черный пиджак заменить броско-лиловым, сохраняя характерную для скуластого глухую охристость щек.
Гармония, слаженность, взаимосвязь, свои непреложные законы… Этой-то гармонии ты и учишься у природы.
Ты бросил на холст пятно, рядом с ним чистый кусок, он требует цвета, он ждет твоей кисти. Вот краски, вот палитра — положи цвет, ты хозяин. Хозяин? Нет, не совсем! Ты не можешь взять краску, какую заблагорассудится, от тебя нетронутый кусок холста требует не любого цвета, а определенного. Но кто требует? Холст?.. Требует логика. И если ты недостаточно послушен ей, если ты бросил кистью неточный цвет, то положенное раньше пятно вопит, возмущается против незаконного соседства: не связывается, нет смысла, не цвет, а мазок грязной краски! И ты снимаешь неудачный мазок, ищешь, ищешь, ищешь гармонию.
Господин ты или раб? Ты — раб, ты повинуешься логике, а счастливое умение повиноваться вложено в тебя от природы, иначе отбрось в сторону кисти!
Господин или раб?.. Ты пока студент первого курса, и скуластый идол, восседающий на возвышении, еще преисполнен мелочной властью над тобой, еще ты робеешь перед ним, поклоняешься ему, копируешь, его копируешь, а не проникаешь в гармонию. Ты не столько учишься у природы, сколько обезьянничаешь, подражаешь ей. Ты всего-навсего студент первого курса и потому сам по себе — переходная форма от художника-обезьяны к художнику-человеку. Ты можешь так и остаться обезьяной, но если вырастешь в человека, то станешь свободно обращаться со скуластым идолом. Он может дать тебе толчок, направление, и ты сам начнешь создавать свою гармонию, не смущаясь тем, что она не будет совпадать с гармонией идола. Идол только подскажет законы, кто знает, быть может, они-то и заставят черное написать лиловым, желтое — розовым. Законы заставят, а не твоя рука-владыка ссамовольничает.
Свободен ты или нет?.. Как и все люди, художник-человек свободен пользоваться законами природы, не свободен переступать через них. Холст, натянутый на подрамник, пространство меньше квадратного метра, вмещающее в себя и боль, и радость, и разочарования, и надежды. В нем, как необъятное солнце: в капле воды, отражается вся сложность человеческого существования.
Первым работу Федора заметил Валентин Вениаминович. Он долго стоял за спиной, дышал в затылок и, после того как Федор обратился к Ивану Мышу: «Слушай, капни чуточку кармина…» — сказал, положив руку на плечо:
— Идем со мной.
— Куда?
— Не спрашивай.
Он привел в комнату, которая от пола до потолка была забита коробками, ящиками, штабелями старых холстов. По стенам развешаны пыльные тряпки, в углу стоит знакомый пузатый самовар, рядом с ним тяжёлый рыцарский шлем, торчит эфес шпаги, на полках тусклые бокалы, муляжи фруктов. Узенький столик стиснут этим хламом, за ним женщина — лаборантка. Она пытливо поглядела на Федора, затем вопросительно на Валентина Вениаминовича.
Тот кивнул головой:
— Да.
И тогда женщина поднялась, откуда-то из-под рулонов нетронутого холста вытащила ящик, приветливо сказала:
— Вот, выбирайте, пожалуйста. В этом году — вы первый.
Федор оглянулся на Валентина Вениаминовича, тот покивал:
— Выбирай, выбирай.
Ящик был до половины набит длинными коробками с тюбиками красок. У Федора разбежались глаза.
С красками было туго. Институт скупо выдавал белила, сажу, охру, все студенты прикупали, но и в магазинах не было богатого выбора. Какой-то интеллигентного вида пенсионер с Верхней Масловки был знаменит среди художников, как начинающих, так и маститых, тем, что тайком продавал экспортные краски. Но, во-первых, он продавал избранным, своей постоянной клиентуре, во-вторых, драл втридорога — Федору не по карману. Федор мучился, чувствовал в работе — бедна палитра, часто клянчил у соседей:
— Капни чуточку…
Отказывать не отказывали, но нельзя же попрошайничать все время.
— Выбирай, что ж ты?
— Да я… Я еще недостаточно хорошо знаю краски. А тут и этикетки на иностранных языках.
Валентна Вениаминович склонился вместе с ним:
— Вот тут — умбры… Марс… Советую взять эту охру, сам оценишь… Сиены, изумрудная… Словом, возьми из каждой коробки по тюбику.
— Спасибо. Откуда такое богатство?
— Что за вопрос? Клава, дайте ему кусок бумаги, пусть завернет.
За дверью Валентин Вениаминович взял Федора за локоть, заглянул в глаза:
— Одна непременная просьба — молчать. Многие, к сожалению, нуждаются в красках, а всех я обеспечить не могу. Не такая уж обширная зарплата у меня, чтоб содержать институт.