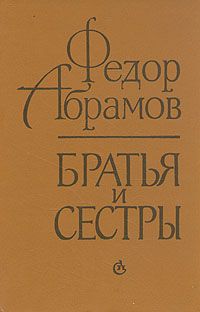Федор Абрамов - Дом
— Подумаем, подумаем! — опять с той же прытью отозвалась Вера. — Везде воды наносим. Только нервные клетки береги, Федоровна!
— А ты брось мне эту привычку! — Раиса не закричала, вся просто затряслась, надо же на ком-то сорвать злость. — Завела: Федоровна, Федоровна! Мати я тебе, а не Федоровна.
— Ну уж и пошутить нельзя.
— Нельзя! Все с шуток начинается, да слезами кончается.
— Хорошо, мам! Твое ценное указание будет выполнено. И со своей стороны берем дополнительное обязательство: вместо тридцати ведер принесем сорок.
Михаил примиряюще махнул рукой:
— Ладно, завтра насчет воды. Сегодня, говорят, кино интересное.
— Вот, вот! — запричитала Раиса. — Завсегда у Нас так: мати что ни скажет, все не так, се неладно. Да разве будет у нас что хорошо в дому…
— Папа, папа! — Вера всплеснула руками. — А дядя-то Гриша…
Все глянули на угол стола, туда, где недавно сидел Григорий. И все увидели: нет Григория. Всегда вот так: войдет неслышно и уйдет неслышно.
А может, так и надо? — подумал Михаил. Чего ему с нами делать? Склеил, слепил ихний семейный горшок, давший трещину, вспрыснул всех живой водой — и живите на здоровье.
Непонятный человек, хоть и брат родной! С одной стороны, как малый ребенок, как дурачок блаженный, а с другой, как подумаешь хорошенько, умнее его на свете нет.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Выдохлась наконец дневная жара — полегче стало дышать.
На Раису напал трудовой зуд — это всегда случается после очередной домашней перебранки, — начала все перетряхивать, все перелопачивать: мыть полы, заново переставлять мебель, подметать заулок. А ему что делать?
Для видимости потолкался по дому, туда-сюда заглянул, обошел усадьбу, прошелся с дочерьми до колодца и кончил тем, что отпустил их в клуб, а затем и сам пошел.
Кино уже началось — Михаил еще на крыльце услыхал рев и грохот, доносившийся из зрительного зала, — не иначе как военную картину показывали.
Он постоял-постоял в пустом фойе и пошел в читальню, в которой еще недавно хозяйничали ребятишки и молодежь. Журналы и газеты вразброс по всему столу, на полу опрокинутые стулья, рваная бумага, песок и, конечно, настежь двери: всем скопом, всем стадом кинулись на выход, когда раздался звонок.
Михаил плотно прикрыл двери, поднял с полу стулья, навел кое-какой порядок на столе и только после этого подошел к списку погибших на войне.
Сто двадцать восемь человек. Целая рота. Это только те, что не вернулись с фронта. А ежели к ним прибавить еще тех пекашинцев, которые приняли смерть во время войны тут, на Пинеге, — кто от работы, кто от голода, кто от простуды на сплаве, кто от пересады в лесу? Разве они не заслужили того, чтобы тоже быть в этом списке? Разве не ради родины, не ради победы отдали свои жизни?
Тоня-библиотекарша (это она рисовала список) поначалу размахнулась круто — за версту видать первые фамилии. А потом увидела — бумаги не хватит, и начала мельчить-лепить так, что последние фамилии без очков и не прочитать.
Ивану Пряслину в этом списке тоже не очень повезло (Тоня еще на букве «н» включила тормоза), но Михаил уже привык — сразу уперся глазом в отцовскую фамилию.
Где-то он читал или в кино видел: тридцатилетний сын в трудную минуту смотрит на карточку молодого безусого паренька, каким был его отец, убитый на войне, и просит у него совета.
Помнится, это до слез прошибло его тогда, и с той поры не было случая, чтобы он, подойдя к этой пекашинской святыне, не подумал бы, что и он уже чуть ли не в полтора раза старше своего отца. А все равно, глядя на родное имя, выведенное от руки черными, уже полинялыми чернилами, он чувствовал себя всегда маленьким недоростком, тем лопоухим пацаном, каким он провожал отца на войну…
2После разговора с отцом у Михаила всегда легчало на душе. Он выходил из читальни как бы весь, с ног до головы, омытый родниковой водой.
Сегодня этого привычного ощущения не было. Почему? Неужели все дело в Коте-сопле, подслеповатом племяннике Сусы-балалайки, который под парами незванно-непрошенно вкатился в читальню? Михаил, конечно, тотчас выставил его вон — не смей, мразь эдакая, с пьяным рылом к святыне! — но настроиться на прежний лад уже не смог.
А может, подумал он, шагая по темной деревне и вглядываясь в освещенные окна, из-за осени все это? Из-за того, что осень опять подошла к Пекашину?
Сколько лет уже как кончилась война, сколько лет прошло с той поры, как отменили налоги и займы, а его все еще и доселе с наступлением августовской темноты будто в ознобе начинает трясти. Потому что именно в это самое время начиналась, бывало, главная расплата с налогами и займами.
Михаил прошел мимо своего дома — хотелось хоть немного успокоиться — и вдруг, когда стал подходить к старому дому, понял, отчего у него муторно и погано на душе. Оттого, что не в ладах, не в согласии со своими. С Петром, с братом родным, за все лето ни разу по-хорошему не поговорил. Парень старается, старый дом, сказывают, перетряс до основанья, а он даже не соизволил при дневнем свете на его дела посмотреть. Да и с сестрой что-то надо делать. Ну дура набитая, ну наломала дров и с домом и с этими детками да ведь сестра же! Какая жизнь вместе прожита!
Эх, воскликнул про себя Михаил, загораясь, вот вломлюсь сейчас нежданно-негаданно и прямо с порога: ну вот что, ребята, посмешили людей — и хватит! А теперь давай докладывай старшему брату что и как.
Он сделал полный вдох, как перед прыжком в воду, решительно оттолкнулся от угла старого дома, откуда смотрел на знакомые занавески с кудрявыми цветочками в домишке покойной Семеновны, налитые ярким электрическим светом изнутри, и снова прилип к углу, потому что как раз в эту минуту из дома Семеновны, громко разговаривая и посмеиваясь, вышли люди.
— Ну, спасибо, спасибо, Лизавета! Опять, слава богу, отвели душу.
— Бесстыдница, убежала-ускакала от нас — мы хоть помирай без тебя.
— Дак ведь не за границу ускакала, — ответил Лизин голос, — а вы не без ног. Версту-то, думаю, всяко одолеть можете.
— Можем, можем, Лизавета! Теперь-то живем. Трудно первый раз тропу проторить, а по натоптанной-то дороге и слепая кобыла ходит.
Понятно, понятно, сказал себе Михаил, старушонки из нижнего конца. Видите ли, осиротели было, бедные, — негде языком почесать стало, когда та из дому своего удрала. А теперь возликовали — можно и у Семеновны горло драть.
А сестрица-то, сестрица-то какова! — продолжал заводить себя Михаил. Он расчувствовался-расслюнявился, чуть ли не с повинной хотел заявиться. А она: ха-ха-ха, заходите в любое время, а про дом-горемыку и думы нет.
Закипая злостью, Михаил круто сплюнул и пошагал домой.
3Дома все сияло и сверкало, как в праздник: и крашеный намытый пол, и начищенный никелированный самовар, который в ожидании хозяина словно паровоз бурлил на столе, и дорогая полированная мебель, отделанная медью. И блестела и сверкала Раиса. За сорок лет бабе перевалило, на иную в ее годы и взглянуть тошно, а этой никакие годы нипочем. Как молодая девка.
Михаил сам молодел в такие вечера. Он гордился своим новым, по-городскому обставленным домом, всеми этими красивыми вещами, которые окружали его, и, чего лукавить, гордился своей красивой румянощекой женой.
В нынешний вечер ничто не радовало его, ничто не ворохнуло сердце. И он как перешагнул порог с насупленными бровями, так и сидел за столом.
— Что опять стряслось? Какая муха укусила?
Раиса спрашивала мягко, дружелюбно, но он только вздохнул в ответ. А что было сказать? Как признаться в том, что вот он сидит в своем расчудесном новом доме, а душой и сердцем там, в старой пряслинской развалюхе?
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
— Где Лизавета? На телятнике все убивается?
Петр глянул сверху вниз: Анфиса Петровна. Стоит в заулке и, как рыба, открытым ртом хватает воздух.
— Что случилось? — закричал он: Анфиса Петровна с ее здоровьем просто так не прибежит.
— Как что? Разве не слыхал? Ведь те разбойники-то дом хотят рушить. Сидят у Петра Житова, храбрости набираются…
Петр не слез — скатился с дома.
— А брат… Михаил знает?
Гневом сверкнули все еще черные, не размытые временем глаза.
— Черт разберет вашего Михаила! Не знаешь разве своего братца? Удила закусил — с места не своротишь!
— Пойдем, — сказал Петр.
— Брат, брат… — плеснулся вдогонку плаксивый голос.
— Чего это он? — Анфиса Петровна посмотрела в сторону крыльца, где с двойнятами нянчился Григорий.
— Больной человек — известно: всего боится, — уклончиво ответил Петр, но сам-то он хорошо знал, чего боится Григорий.
2Редкий день не появлялся в ихнем заулке Егорша.