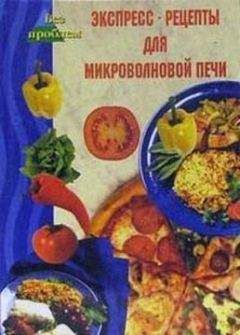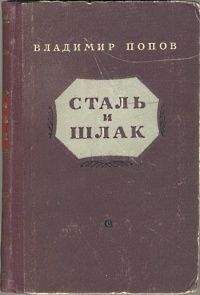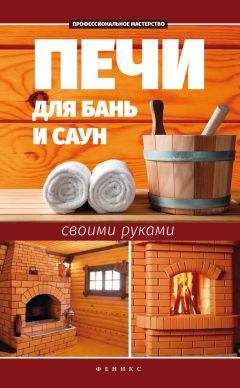Анатолий Маркуша - Грешные ангелы
Ну, вот подъезд. Тут, кажется, ничего не изменилось. Даже «Лешка — хвост!» — на месте. Как выцарапал рыжий Димка, так и осталось. Пожалуй, стало грязней, неприютней. Понятно, война.
По лестнице я поднимался почему-то на цыпочках. Мне ужасно хотелось не просто войти в дом, а… нагрянуть! Застать врасплох.
Вот — дверь. Дрожащей рукой вставил ключ… Слава Богу, замок открылся почти бесшумно. В коридоре было темно, но я прилетел домой! И никакая подсветка не требовалась: ноги сами привели меня к двери. Тихонько толкнул створку и вошел в комнату.
Все тут было, как было — обои, мебель, фотографии. Только в нашей комнате было запустение. На столе стояла чашка с недопитым чаем, рядом с пустой хлебницей — мой старый, еще больше облезший медведь. Он сильно сдал за военные годы, вроде даже голову опустил, и секретного кольца что-то не было видно.
В смежной комнате мамы тоже не оказалось. Наверное, мама на кухне, подумал. Пойти за ней или обождать? Обожду. Присел к столу.
В розетке для варенья блестело что-то белое: не соль, не сахар… Кристаллики несколько напоминали нафталин, только мельче. Понюхал — не пахнут. Лизнул палец, приклеил самую малую пылинку и отправил в рот… Сначала язык вроде обожгло, потом по всему рту разлилась какая-то сильно преувеличенная сладость. Сахарин, сообразил я. И мне сделалось еще грустнее.
Поднялся: пойду на кухню — к маме. Но тут она появилась сама. Нет, не вскрикнула, пораженная моим появлением, не упала в обморок, а тихо заплакала, сказав только:
— Дождалась… вообще-то я знала…
Мама очень расстроилась, узнав, что в нашем распоряжении всего один час, что в Тушине стоит мой «лавочкин» и в четырнадцать ноль-ноль запланирован вылет. Куда? Странный вопрос! Дальше — на запад. Об этом я сообщил маме с бодростью необычайной, будто лететь на запад было развлечением, праздничной прогулкой…
Мы говорили торопливо, разом, мешая друг другу совсем ненужными вопросами и неожиданными воспоминаниями.
Под конец я почему-то спросил:
— А медведь для чего на столе очутился?
— Он со мной и в эвакуации был, — ответила мама, как мне показалось, смущенно. — Только он один и был там со мной. Хочется же поговорить с кем-нибудь… И знаешь, когда совсем нет рядом с тобой прошлого, очень трудно чего-то ждать от будущего…
Никогда моя мама не была сентиментальной, она не верила в бога, не страдала суеверностью… Медведь, увезенный в эвакуацию, — это был не ее стиль… Впрочем, и война была совсем уж не в ее стиле.
Когда мы попрощались, когда все уже было сказано и время не позволяло мне мешкать, мама сказала:
— Об одном прошу: если возможно, пиши почаще, хоть одно слово: жив.
По дороге на аэродром я заскочил на почту. Попросил конвертов. Симпатичная глазастая девушка поглядела на меня непонимающе:
— Вы с фронта, наверное? — и улыбнулась. — Давно уже нет никаких конвертов в помине…
— Жаль, — сказал я и тоже улыбнулся, — очень нужно.
— Кому писать-то собираетесь?
— Маме. — И я рассказал этой совершенно незнакомой девушке про медведя, который ездил в эвакуацию, и о том тягостном, что встретило меня в доме… Не надо, наверное, было говорить об этом, да так получилось.
— Подождите, — сказала девушка и вышла.
Я поглядел на часы — времени оставалось совсем мало.
Славная девушка скоро вернулась и подала пачку секреток.
Теперь таких не делают — листок, сгибающийся пополам, имел клейкую кромку. Сложи, залепи, и пожалуйста, получается закрытое письмо…
Секреток оказалось пятьдесят. Это я узнал, добравшись до места назначения, на полевой аэродром. И в первый же вечер я заполнил их все.
Жив, — писал я, — от тебя долго нет весточек, но я не волнуюсь, т. к. не сижу на месте и понимаю: почте трудно угнаться. Здоров. В порядке. Очень прошу, за меня не беспокойся. Мы не воюем уже, а только довоевываем. Разницу чувствуешь? Обнимаю тебя…
Тексты имели разночтения, но смысл их сводился к только что приведенному.
Мне обязательно надо было исписать все секретки, чтобы не разбазарить их… И было еще соображение…
Утром я отдал золотому моему механику Алексееву все полсотни секреток и наказал:
— Если не вернусь с задания, Гриша, посылай штуки по две в неделю.
Он посмотрел на меня хмуро и сказал:
— Лучше возвращайся, а я буду напоминать, чтобы сам посылал…
Когда мама умерла, в немногих ее бумагах я обнаружил сорок четыре секретки — голубенькие, из шершавой бумаги, с жалкой розочкой или каким-то еще цветком, напечатанным в правом верхнем уголке внутренней страницы…
45
Никогда вещи не имели надо мной особенной власти. Бывало, конечно, мальчишкой мечтал о фуражке-капитанке с лакированным козырьком, или позже хотелось обзавестись кожаным пальто, но чтобы с ума сходить: без мотоцикла или без трофейной машины БМВ жизнь не жизнь — такого не случалось.
Однако вещи я видел и, если можно так сказать, запоминал их в лицо. Порой надолго. И всегда любил, да и сейчас люблю соотносить вещи с повадками и характером их владельцев.
У Митьки Фортунатова я был всего один раз. Затащила Наташа. Для чего, я не понял. В памяти остались просторные комнаты бывшей барской квартиры: потолки высоченные, карнизы лепные, двери с зеркальными стеклами. Все добротное, массивное, сработанное на года. И странная толкучка вещей, царившая в этих комнатах. Краснодеревные шкафы, буфеты и посудные горки; были там еще комоды и секретеры… А всякий клочок горизонтальной площади залеплен фарфором, хрусталем, деревянными статуэтками, бронзовыми безделушками и еще какой-то прорвой занятных вещей и вещичек. Было что-то неистребимо магазинное в фортунатовском доме.
Но больше вещей, захвативших львиную долю живого пространства, поразило меня отношение к этим самым вещам.
Нас с Наташей пригласили к чаю. Смотрим, овальный полированный стол накрыли суконной попоной, поверх положили кухонную клетчатую клеенку, обрезанную точнехонько по форме крышки, и еще постелили байку, а потом только скатерть: Никогда прежде (да и потом) такого не видывал.
А как морщилась хозяйка, когда Митька — уж он-то наверняка был надрессирован! — с пристуком опускал фитюльку-чашечку на расписное, очевидно, китайское блюдечко…
Ну, а когда Наташка едва не смахнула на пол вазу — этакое многоярусное сооружение из стеклянных тарелочек, нанизанных на блестящий серебряный стержень, — Митькина мама схватилась за сердце. Конечно, я тогда не понимал, какая, скажем, мебель у Фортунатова — просто старая или старинная, дорогая или антикварная; что у них за посуда — севрская, гарднеровская, императорского завода… Но я запомнил на всю жизнь: мебели, вообще барахла была прорва и над имуществом тряслись, а лучше сказать — трепетали.
Позже, сначала подрастая, потом набираясь ума, наконец, надеюсь, мудрея, я перевидал всякое: и кровати, убранные кружевными подзорами, украшенные пирамидками подушек — меньше, меньше, меньше, меньше… едва не до самого потолка; и много раз осмеянных, якобы специфически мещанских слоников, непременно колонной, обязательно по семь; видел разную редкую мебель — и красного дерева, и карельской березы, и светлого американского клена; попадались на глаза вещи затейливые, изукрашенные резьбой или бронзовыми накладками, инкрустированные перламутром. Что сказать? Беречь старину, приобретать дорогой комфорт, наверное, не зазорно и наверняка не предосудительно, но преклоняться перед вещами, служить бездушным предметам — позорно и, хуже того, — погибельно. Посещение Фортунатовых получилось скучным.
Мы сидели, окруженные роскошью. Под самым носом у нас громоздились горками разные печенья и заманчивые восточные сладости, пестрели нарядными обертками сортов пять лучших конфет. Митька молотил все подряд. Его мама старалась нас развлекать явно «воспитательными» разговорами. Все ее слова так или иначе касались правил хорошего и очень хорошего тона. Кстати, образцом, достигшим вершины такого тона, мама называла бывшего графа, генерала Красной Армии Игнатьева…
Сообразуясь с обстановкой я старался есть и пить так, чтобы не подумали — голодный, или, что оказалось бы еще неприятней, — первый раз за таким столом.
Все, наверное, сошло бы благополучно, но… «мой черт», что живет во мне и постоянно шкодит, вдруг выскочил. Когда я был уже по горло сыт и печеньями и козинаками, а пуще — речами мамы Фортунатовой, стараясь поддержать беседу о правилах хорошего тона, я поинтересовался:
— Скажите, а почему женщины не любят, когда упоминают их возраст?
Мама Фортунатова охотно и обстоятельно принялась объяснять. Получалось, женщине-де свойственны очарование, красота, мягкость, и, естественно, каждое существо женского пола хотело бы возможно дольше оставаться предметом поклонения…