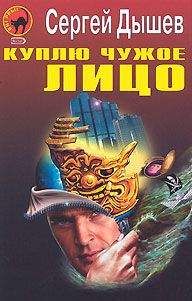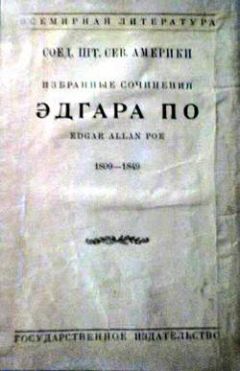Сергей Снегов - Язык, который ненавидит
— Смотря почему бежал обратно. У нас ведь побег был особенный.
— В чем особенность?
— Бежали мы трое. Васька Карзубый, Сенька Хитрован и я.
— Групповой побег. Отягчает дело, что трое, а не один. Но большой особенности пока не вижу.
— Да ведь бежали не просто, а с коровой.
Я уже что-то слыхал о таких побегах, но как-то не сработало нечеткое знание, и я глупо спросил:
— А где достали корову? Из нашего совхоза увели?
Трофим даже засмеялся, настолько диким показалось ему мое непонимание.
— В совхоз не пробирались. Одного из троих положили в коровы. Чтоб съесть, когда голодуха одолеет невтерпеж. В тундре, сам знаешь, продовольственных складов не оборудовано.
Я долго смотрел на Трофима. Он выглядел совершенно спокойным.
— Кого же определили в корову?
— Задумка на уход была Васькина. Сговорились с ним, что в корову возьмем Сеньку Хитрована.
Я помолчал, переваривая сообщение.
— Сговорились заранее съесть человека… И ты мог бы съесть своего товарища?
Он выразительно пожал плечами.
— Так ведь не сразу, а когда голодуха прижмет. Или всем подыхать, или ему одному, а двоим спастись. Простой расклад — один выручает двоих.
— Очень простой, правда. Голодуха в жизни бывает у каждого… А ты все-таки когда-нибудь ел людей?
Он ответил не сразу:
— Чтобы сам убивал на еду — нет. А по-всему — ел. Да и не я один. Было такое — всякую дрянь ели. И кошек, и крыс… Человечиной даже торговали на базарах.
— Расскажи о себе подробней.
Дальше я поведу рассказ своими словами. Так мне удобней, Трофим отвлекался в стороны, путался в своей блатной «фене». Он начал с голода 1921–22 годов — страшного соединения засухи с последствиями свирепой гражданской войны. Я тоже пережил на юге ту ужасную зиму и еще более жестокую весну. И хоть отчим и мать получали скудные продуктовые пайки и мы кое-как перебедовали до нового урожая, в моих детских глазах навеки застыли картины падающих и умирающих на улице прохожих, а детские уши сохранили разговоры взрослых о том, что по соседству, то там, то здесь, обнаруживали людоедство — пожирали недавно умерших, убивали на пищу вконец обессиленных. И второй, не менее страшный, искусственно порожденный преступной правительственной политикой голод 1932–33 годов я видел на Украине уже взрослыми глазами. Миллионы людей тогда погибли, я был бессильным очевидцем картин, которые нельзя принять, нельзя забыть, нельзя простить: в моем родном городе десятки иностранных судов загружали пшеницей на экспорт, а рядом с городом, на железнодорожных станциях, я сам видел это, грудные детишки ползали по телу умершей от голода матери и тихо скулили перед тем, как самим умереть на ней. И еще я видел летом того же 1933 года, как сельские чекисты гнали на работу отощавших «принудчиков» и те падали на землю и без помощи не могли подняться, а некоторым и помощь не помогала.
И в те же страшные годы, жадный книголюб, я прочел у поэта Фридриха Шиллера в его историческом трактате «Тридцатилетняя война», как погибала от голода обширная, по тем временам культурнейшая Германия, вконец разоренная противоборством католиков и лютеран. А у историка Александра Трачевского, в его «Новой истории» с ужасом узнал, что съедание трупов было в те годы нормальной жизненной операцией в опустевших и озверевших немецких деревнях. Скорбные слова старого петербургского профессора: «не только питались трупами, но матери жарили и ели собственных детей» — в тяжкой своей нетленности навечно сохранились в моей памяти. И Трачевский добавлял, что за годы великой религиозной войны, которую обе стороны вели во имя провозглашенных ими высоких идеалов, население в Германии сократилось с 17 до 4-х миллионов, а сельское хозяйство лишь через двести лет, в 1818 году, достигло того уровня, на котором стояло в 1618. И в дни разговора с Трофимом совсем уже немного времени оставалось до освобождения Ленинграда — и тогда устрашенный мир узнал, что и там, и ныне, в двадцатом веке, совершалась во время блокады и охота на людей, и человекоедение.
Всю жизнь я мыслил не так красиво выстроенными логическими силлогизмами, как яркими стихами. И я хорошо помнил гениальное стихотворение Максимилиана Волошина о голоде двадцатых годов в Крыму и часто твердил про себя его неистовые, мучительные строки:
Хлеб от земли, а голод от людей:
Засеяли расстрелянными — всходы
Могильными крестами проросли:
Земля иных побегов не взрастила.
Землю тошнило трупами — лежали
На улицах, смердели у мертвецких.
В разверстых ямах гнили на кладбищах,
В оврагах и по свалкам костяки
С обрезанною мякотью валялись.
Глодали псы отгрызенные руки
И головы. На рынке торговали
Дешевым студнем, тошной колбасой,
Баранина была в продаже триста,
А человечина по сорока.
Душа была давно дешевле мяса,
И матери, зарезавши детей,
Засаливали впрок: «Сама родила
Сама и съем. Еще других рожу…»
Не знаю, читал ли Волошин Трачевского, но нарисованная ими картина совпадает даже в своих чудовищных деталях: матери поедали собственных детей. Давно печалились: голод не тетка. Но голод, когда становится массовым, не раз приводил к утрате того главного, что отличает человека от животных: потере им своей человечности.
Так что признания Трофима не были для меня столь уж невероятными. Я и не собирался морализировать по поводу его нравственного падения. Но было все же важное отличие между каннибализмом обезумевших от голода людей и холодным расчетом сытых здоровых парней, заранее деловито наметивших сожрать своего товарища, когда исчерпаются запасы захваченной пищи. Здесь было нечто, недоступное моему пониманию. И я потребовал:
— Рассказывай с самого начала, Трофим.
Начало, оказывается, было в побеге нескольких десятков заключенных из котлована, вырытого на окраине нашего никелевого завода. Бригада землекопов из бывших военных напала вдруг на «попок» — четырех стражей на вышках, обезоружила их и с захваченными автоматами ушла в тундру. Цель побега, по рассказам, была простая — прорваться к Енисею, по дороге разжиться продовольствием и новым оружием в поселках, захватить какое-нибудь суденышко и уплыть на нем за рубеж. И хоть добытым оружием бывшие солдаты и офицеры, посаженные в лагерь, владели несравненно лучше, чем так за всю войну и не понюхавшие пороха вохровцы, беглецов после нескольких настоящих сражений всех переловили — кого сразу убили, кому навесили новые сроки, кого после возвращения расстреляли по приговору суда. Побег заключенных военных наделал много смятения в Норильске. И первоначальные шансы побега, и его трагический исход горячо обсуждались во всех бараках, особенно среди уголовников, всегда мечтающих о «заявлении зеленому прокурору» — как они между собой называют побеги.
— Фофаны эти офицеры! — доказывал Трофиму его сосед по нарам Васька Карзубый, вор из «авторитетных», одно время примыкавший к стае Икрама, потом рассорившийся со своим паханом. — Диспозицию по-военному выработали накоротке переть отрядом на воду. А до воды — одни голые льды. Первый же самолет всех застукал, а куда на равнине деться? На автоматы понадеялись, дурье! И вышло — их четыре автомата против сорока у вохряков. Нет, не на бой им было дуть всей командой, а прятаться от боя. Уходить только через тайгу, и только на юг. Не так, Фомка?
Трофим согласился с товарищем, что через тайгу бежать безопасней и на юг, в населенный мир, разумней, чем на Енисей, открытый обзору с воздуха. О реальном побеге он тогда и не задумывался — просто, по характеру, соглашался всегда с тем, кто был умней и решительней.
Так и шли поначалу разговоры о побеге. А потом играли в карты, Трофим попал в крутую «замазку» — Васька Карзубый перешулерничал товарища. Захотелось, «отмазать» проигрыш, Васька потребовал играть на побег — либо квиты, если выиграешь, либо уходим вдвоем, если проиграешь во второй раз. Трофим сгоряча рискнул — и проиграл.
Вот тогда и началась подготовка побега. Васька уже давно разрабатывал план ухода — выспрашивал у знающих людей о реках, озерах, горных барьерах и городах на пространстве между Норильском и Красноярском. Даже школьную карту края достал для уверенности. Расстояние было немалое — полторы тысячи километров по прямой до железной дороги, больше двух тысяч по таежному бездорожью. Именно такой маршрут — через тайгу, реки и горы, далеко обходя все крупные поселения, лепившиеся к Енисею, — и выбрал Васька, как единственно надежный. Трофим поначалу ужаснулся. Никто в лагере, свято хранившем предания об удачных «уходах», еще не слыхал, чтобы беглецы удалялись в глухую тайгу, вместо того, чтобы пробираться к единственной надежной магистрали на волю — всегда оживленному, полному судов и поселков Енисею.