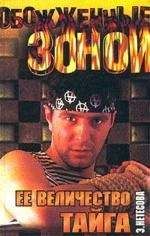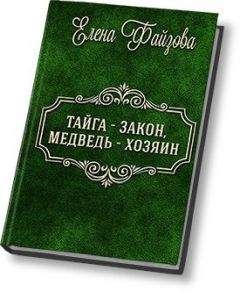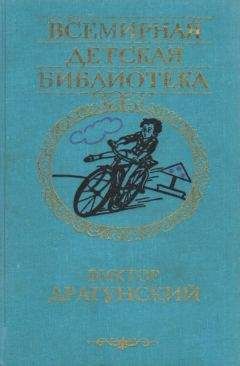Виктор Попов - Закон-тайга
Я пожал плечами и неопределенно улыбнулся. Будь вместо меня Матвей, от шефа полетели бы перья, а я просто улыбнулся. Ничегошеньки шеф не петрит в диалектике. Для него мир статичен и он не может прозреть даже ближайшее десятилетие. Он привык к неизменности растений, эволюция которых исчисляется миллионами лет, и людей той же меркой мерит.
Какое все-таки славное ощущение испытываешь, когда плывешь на плоту. Пожалуй, даже более славное, чем когда плывешь на лодке. Лодка на гребешках покачивается, а плот переваливается, каждое его бревнышко на струи реагирует по-своему. Которое потолще — сохраняет достоинство, и к нему вполне применимо сказать, что оно по реке идет. А те, что потоньше, уже не идут, а семенят. Они быстры и мелки в движениях, чрезмерно суетливы и, думается, не лишись, бедняги, кроны, угодливо раскланивались бы с каждой мало-мальски строгой волной. Лодка ограждает тебя от воды, а плот сближает с ней. Из лодки ты воду видишь, на плоту ты ее ощущаешь. И главное — на плоту можно лежать. Не как в лодке — скрючившись, заткнув ноги под банку и с трудом, когда затекут, ими пошевеливая. На плоту можно лежать просторно и беззаботно, переворачиваться, не думая о катастрофе.
Но я переворачиваться не хочу. Мне вообще не хочется двигаться. Так бы и лежал, лежал, на спине, вольно раскинув руки, каждой капелькой себя принимая утреннее, еще не сердитое июльское солнышко. Сквозь щели между бревнами проступает вода, она чуть поплескивает и достает до моей спины редкими, мелкими, как морось, капельками. По груди у меня, по раскинутым ногам и рукам бродит нежный ветерок, и кажется мне, что не водой мы движемся, а по небу: так все облекающее меня прекрасно и нежно. Мне ни о чем не хочется думать, ничего не хочется вспоминать. Я слышал где-то, что у состарившихся людей обратная перспектива. Их влечет не будущее, а минувшее. Они еще и еще раз мысленно переживают пережитое и так же волнуются, вспоминая свои успехи и неудачи, будто то и другое выпадало им не когда-то, а пришло сейчас. Старые люди слишком мудры для будущего и совершенно беспомощны перед прошедшим. Даже малой малости не могут они в нем исправить, и сознание этого делает их порой равнодушными.
Мне всего-навсего девятнадцать, и мне в своем прошлом ничего переделывать не хочется. Даже случая, когда я, выбираясь из чужого сада, зацепился штанами за колючую проволоку. Проволока на совесть исполняла свою подлую роль до прихода хозяина, который освободил меня удивительно легко. Он просто-напросто взял мои ноги и, чуть подняв колючки, втащил меня в тот сад, который мне уже совсем не был нужен. Я мычал, хватался за кусты и сучил ногами. Яблоки, лежав-шие за пазухой, очень меня тяготили, и я, чуть приотвалившись на бок, расстегнул рубашку. Без вещественных улик сделалось свободней, и я стал объяснять дяде Сане, что меня интересовали не яблоки, а наш Тобик и что явился я в чужой сад совсем не по своей воле. Это же мамина кошечка, она вчера куда-то задевалась, мать очень переживает, вот я и хотел найти Тобика.
Когда дядя Саня выдернул из моих штанишек ремень, я начал тихонько постанывать.
— Чтой-то ты, Арканя, забеспокоился? — голос дяди Сани был неподдельно заботливым. — Неловко тебе, ага?
— Правда же, дядя Саня. Тобик.
— Прошлый раз Белочка была, теперь — Тобик… Ту-то кошечку Белочкой звали?
Говоря это, дядя Саня моим ремнем связал мне руки, своим — ноги. Потянул, проверяя, крепки ли узлы, поднялся. Поддернул брюки и рассудил сам с собой:
— Давешний раз я его уже драл, пользы не получилось. Теперь пущай отдохнет. Ты ее, Арканя, где искал, кошечку-то: на грушовке али на коричной? На апорт, небось, не лазил? Он ишшо зеленый, апорт-то…
Я лежал и втихомолку радовался. Мне даже нравилось так лежать: связан, будто нахожусь в настоящем плену.
— Ты это, чтобы к утру не застыть, крапивой укройся. Она горячая, крапивка-то…
Едва дядя Саня, поддерживая брюки, ушел, я начал действовать. Это ведь когда индейцы связывали, освободиться от ремней из сыромятной кожи было почти невозможно. И то освобождались. А дядя Саня… тоже мне, индеец!
Средств освободиться от пут я знал несколько. Перво-наперво, конечно, я попробовал дотянуться до узлов. Однако хотя дядя Саня индейцем не был и наверняка не читал ни Фенимора Купера, ни Майна Рида, ни Густава Эмара, опутал он меня по-хитрому. Руки завел за спину и схватил в локтях, а ноги связал под коленками. При видимой свободе движений ни до одного узла я не мог дотянуться. Я извивался отчаянно, разумеется, кусал губы и царапал себя и землю ногтями, но дело освобождения не двигалось. Тогда я добрался до садовой скамейки и стал перетирать ремень о ее ребро. Тереться было неудобно, скамейка жигала мне спину, но ради свободы люди шли не на такое. Я загнал в спину несколько заноз (впоследствии оказалось — четыре), ободрал лопатку, а ремни как были, так и остались. Что ж, тогда надо расслабиться и неторопливыми движениями спускать путы с рук. Я вобрал живот, выдохнул и, как мне показалось, стал ватным и раза в два меньше объемом.
Сами догадываетесь, все известные средства были использованы и все — безрезультатно. С трудом я допрыгал до беседки, лег на холодный деревянный пол и первый раз в жизни мне пришла в голову мысль о том, что самое дорогое на земле — воля. С тех пор я об этом думал не однажды. Последний раз, например, недавно, когда мы были в колхозе «Красная заря». Шофер задавил женщину. Она лежала на дороге, и кровь, сочившаяся из разбитой головы, закутывалась в серую пудру пыли. Шофер стоял перед женщиной на коленях, держал ее руку и, судорожно глотая слюну, тихо повторял:
— Тетя Фира… тетя Фира…
Глаза шофера были белыми и бессмысленными.
Я подумал, что ему, человеку всего минуту назад неограниченно вольному, придется сидеть в тюрьме. Как-то мать, разговаривая с соседкой, сказала слова, которые я не забуду никогда: «От тюрьмы и от сумы не отказывайся». Она тогда их сказала, когда осудили дядю Колю, нашего соседа, инженера по технике безопасности. Он что-то там Недосмотрел или не огородил, и рабочего искалечило. Соседка передавала, что на суде он плакал и жена его тоже, но слезы к делу не пришьешь. Дядя Коля помогал нам делать коробчатые змеи, учил играть в городки и вообще был человек, как опять же сказала мать, который мухи не обидит. Мы, помню, все очень жалели дядю Колю.
В детстве я не задумывался о неотвратимости наказания. Когда я зарабатывал очередную порцию «сильнодействующего», то относился к этому не то чтобы равнодушно, но и без большого возмущения. Хотя и не понимал, почему так несправедливо устроен мир. Купила, допустим, мать конфеты «Мишка на Севере». Купила специально для меня, потому что себе она покупала к чаю карамель «Кофейную». Не из-за того, что она ее любила больше «Мишек», а так как жили мы без отца и денег у нас всегда было в обрез.
Дорогие сладости изредка покупались только для меня. Представляете себе: лежат в открытом шкафу конфеты в фантиках, за которые любой мальчишка с нашей улицы не поскупится на «один к десяти», а я должен (брать в день не больше трех конфет. Одну — после завтрака, две — после обеда. На ужин конфет не полагалось, ибо детский врач Стрелковский сказал матери, что сладкое перед сном не рекомендуется.
Три конфеты. Таким изуверским способом мать закаляла мою волю, испытывала честность. Однажды утомленная честность минут на десять смежила очи. В кармане моем появилось сразу восемнадцать фантиков, а на тарелке в шкафу осталась как раз порция следующего дня. Вечером я горячо убеждал неутешную мать, что растит она не мелкого воришку, а тем более не разбойника с большой дороги. Ведь конфеты все равно предназначались мне, а следовательно, я наказание не ее, а свое собственное. Я же сам теперь шесть дней буду сидеть положив зубы на полку (ее неотразимый довод). Однако логика моя, видимо, показалась ей формальной, потому что из спальни мать появилась с самоучителем (широким, сужающимся книзу ремнем). Что ж, я не очень возмущался. Взрослые испокон веку считают, что их задача — учить детей уму-разуму. Многие при этом убеждены, что ягодицы — наиболее надежный передаточный канал, по которому ум-разум форсированно проникает из одного организма в другой.
Учение уму-разуму я воспринимал, как должное. Между проступком и расплатой для меня существовала прямая связь: заработал — получай. Это было само собой разумеющимся, и, повторяю, тогда я над этим не задумывался. Когда я лежал связанный в дяди-Сашином саду и смотрел на близкие августовские звезды, во мне уже бродили какие-то неясные мысли о причинности, о соотношении содеянного и мере риска. Еще позже мне пришлось разговаривать с бывшими заключенными. Они хотя и говорили, что «и в тюрьме люди живут», но я понял, что живут они там только мыслью о воле. Некоторые из них, отбыв срок, снова конфликтуют с законом. Это, на мой взгляд, не риск, а безрассудство, это все равно, что головой да в омут.