Лев Правдин - Ответственность
Всем стало неловко и за то, что она говорит, и за ее слезы, и только одна Ася презрительно усмехнулась. Сама она слезливых девчонок презирала и тех, кто их утешал, тоже презирала и всегда высмеивала. Она сорвала со стены полотенце и через всю комнату ловко бросила его Марине.
— Утрись, — проговорила она и подумала: «Плакса, а еще туда же, пианистка».
Но теперь, по крайней мере, стало ясно: друзья пришли, с некоторым, правда, опозданием, но все-таки пришли. Они тут же начали давать Сене всякие полезные советы, он слушал их молча, а им казалось, что вспышка гнева прошла и что он соглашается с ними, и это ободряло их.
— Хочешь к нам на завод? — предложил Юртаев. — Будешь работать и учиться, как Олег.
Марина всхлипывала, отвернувшись к стенке.
— Не сморкайся в полотенце, — посоветовала Ася. — Лучше умойся, умывальник там, в углу.
— Давай к нам на завод, — оживленно, словно ничего не произошло, подхватил Олег. — У нас пушечки, знаешь, какие делают классные! Подучишься, разряд получишь. А жить, если хочешь, у нас можешь. Или вот у Володьки… У него собственный дом.
В углу звенел умывальник. Все еще всхлипывая, Марина проговорила:
— У нас инструмент есть, вместе заниматься будем…
Ася мстительно рассмеялась:
— Вот как все распределили! А нас и не спросили.
Она посмотрела на Сеню выжидающе и тревожно. А он лежал, обессилев после вспышки, и вяло думал о незавидном своем положении. Докатился! Все, кому не лень, лезут со своими советами, распоряжаются его судьбой. А его и не спросили, как будто у него уж и нет ни своей воли, ни своих планов.
Отдавая полотенце, Марина спросила Асю:
— Ты в каком классе?
Ася бросила полотенце на табуретку и ничего не ответила. Юртаев выходил последним. У двери оглянулся и напомнил:
— Так ты приходи. Буду ждать. Улица Овражная, три. Я в мезонине живу. Ты прямо ко мне.
«Я ТЕБЕ ВЕРЮ»
Когда они ушли, Сеня недобрым голосом спросил:
— Ты зачем мне соврала про карточки?
Встряхивая полотенце, Ася твердо ответила:
— Я никогда не вру. Оч надо!
— Оберегаешь?
— А зачем говорить, если ты болен? Все равно ничего не смог бы. Лежал бы да расстраивался. Только хуже. Уж ты меня не учи и не спорь. Со мной даже мама не берется спорить.
Проговорив это, она улыбнулась так устало, что у Сени пропало желание противоречить ей. Она взяла старый эмалированный таз и вышла из комнаты.
Вот еще одна, которая присвоила себе право распоряжаться его судьбой. Присвоила? Нет, надо быть справедливым: эта девочка завоевала право вмешиваться в его жизнь. Выстрадала. Что бы с ним было без нее? И тут мало одной справедливости, надо быть благодарным ей за все. И только ей одной.
А другие? Прав ли он, не пожелав даже разговаривать с теми, другими? Привитые ему с детства понятия о чести предписывали, в первую очередь, оглянуться на себя, проверить свои поступки, со всей строгостью оценить их. Требовать от других можно только то, что ты можешь потребовать от самого себя. Не больше. И никогда не прощать нарушений правил чести никому, и в первую очередь себе.
Так учил его отец. И еще он предупреждал:
«Но при всем этом будь добр к людям. Будь добр, но никогда не проявляй снисходительности. Никогда, понял? Снисходительность ободряет подлецов и оскорбляет честных людей».
А отец умел совмещать доброту к людям с беспощадностью к их порокам. Но даже его беспощадность была доброй. Она не убивала, но заставляла смотреть на себя со стороны. И отца любили и считали справедливым, и к его мнению прислушивались. Также было известно, что ни уговорить, ни, тем более, подкупить его невозможно ни лестью, ни угрозой. Его мнение всегда было непоколебимым.
Таким был отец. И таким должен стать сын. А мама?
Этот вопрос Сеня часто задавал сам себе с того дня, как только к нему вернулось сознание. Отец как-то сказал маме, что любит ее так же, как музыку. Она засмеялась, а он, немного восторженно и беспокойно, как всегда, если говорил о музыке, добавил: «Мой Гайдн, моя жена, мой Чайковский. Все это — моя жизнь».
Жену он приравнивал к музыке. Она была для него так же, как и музыка, чиста, неизменно благородна и полна того особого значения, которое называется жаждой жизни.
Он ставил ее неизмеримо выше себя. А Сеня не помнит, чтобы отец ошибался в том, что он считал главным в своей жизни. Мог ли он ошибиться в маме?
Ответить на этот вопрос он не успел, вошла Ася, принесла в тазу сухое белье, которое она выстирала утром.
— Ты правильно сделала, что не все рассказала мне.
Она с удивлением оглянулась на него через плечо и молча занялась бельем. Что с ним? Не всегда он так охотно соглашался с ней, и она высоко ценила в нем это качество. Она не любила, когда с нею соглашались сразу, без спора. Это значит, что ничего человек не понял и согласился только оттого, что ему лень спорить. С таким человеком ей становилось скучно, и в конце концов она переставала с ним разговаривать. Но Сеня признавал ее правоту с таким видом, словно не она, а он одержал победу, заставив ее сознаться в своем поражении. С тем же видом победителя он провозгласил свою волю:
— И ты теперь всегда будешь права.
— Да? — спросила она удивленно.
— Потому что я тебе верю, — твердо сказал Сеня. — До конца.
Ася смущенно склонилась над стопкой белья и долго не могла найти, что сказать, чтобы не выдать себя.
Наконец она проговорила:
— Юртаев хороший парень, как ты думаешь?
— Не знаю. Я его увидел в первый раз.
— И я тоже в первый раз.
Теперь уже Сеня не возражал — хороший так хороший. Ей лучше знать, тем более что раздражение помешало ему разглядеть как следует своего нового знакомого. Нет, надо держать себя в руках. Нельзя поддаваться минутному гневу, особенно если ты видишь человека впервые. Конечно, Юртаев — настоящий парень, это он привел Олега и Марину. Вот и Асе он понравился, а это не так-то просто — заслужить ее похвалу.
Сеня осторожно посмотрел на Асю, приготовившись выдержать ее непримиримый взгляд. Но она смотрела на него ожидающе и, честное слово, смущенно. Это обескуражило его, сбило с толку.
— Ты что это? — спросил он.
— Ничего. — Вскинула голову и свысока: — И я тебе верю, очень. Ты не всегда все делаешь как надо, а я все равно тебе верю. Каждому твоему слову.
КУЗЬКА КОНСКИЙ
Во двор вошел Кузька Конский. Сеня его никогда не видел и знал только по Асиным рассказам, но был уверен, что это именно Кузька: разноцветная башка на широком, как ящик, теле и необыкновенно кривые короткие ноги. Конечно, это Кузька — специалист по несчастьям. «Полчеловека».
Он тащил на плече большую, почерневшую от старости доску, и был похож на огромного муравья, волокущего непомерную ношу. Он бросил доску, и над ней взвилось облачко гнилой коричневой пыли.
Сидя у окна, Сеня наблюдал, как Кузька взял шапку, которая была подложена под доску, чтобы не намять плечо, и начал шапкой отряхиваться. От него тоже пошла гнилая пыль. Передвигался он, сильно раскачиваясь на кривых ногах, и так размахивал длинными тяжелыми руками, будто отталкивался ими от земли.
В комнату он вошел без стука, просто открыл дверь, как в свой дом, и вошел. Поздоровался он так:
— Здравствуешь, горюн!
— Почему горюн? — растерялся Сеня.
Кузька охотно объяснил:
— Потому что несчастный человек.
— Ну и что?
— А я к счастливым не хожу. Со счастливых навару немного бывает.
— У нас тоже ничего нет.
— А мне от вас ничего и не надо. Вот доску приволок. Дня три топить хватит. Погрей душу, горюн.
Сеня недоверчиво посмотрел на посетителя. То немногое, что он знал о Кузьке, как-то не вязалось с подобным бескорыстием. Но еще больше, чем бескорыстие, Сеню удивило Кузькино лицо. Обыкновенное лицо пожилого и несколько равнодушного человека. Ни хитрости, ни жадности, ни злобы. Ничего такого, что полагалось бы «специалисту по несчастьям», неполноценному человеку. Обыкновенное лицо. Именно эта обыкновенность и удивила. У Кузьки были чисто выбритые, в меру румяные щеки, карие глаза под тяжелыми набрякшими веками, толстая нижняя губа.
— Погрей душу, горюн, — сказал Кузька и вдруг опустился на пол. Он сел, как это делают маленькие дети: просто подогнул свои «колеса» и сел там, где стоял.
— Зачем же вы так?.. — нахмурился Сеня. — Вот стул.
— Куда мне! — засмеялся Кузька. — Не дорос до стула. Задницей не вышел. За то и зовут меня так: «Полчеловека».
Он засмеялся, не разжимая губ, и подмигнул, как бы не только одобряя меткость этого прозвища, но и намекая на особый, скрытый в нем смысл.
— А ты не брезгуй моим существом. Человек в страданиях рождается, в страданиях и проживет. Радостей да удовольствий не так-то много. Радость вроде гостя; пришел, выпил, песню спел да и ушел. Гость — хозяину убыток. Да еще скажу: радость-то эту, и даже самую малую, надо хватать, из рта у других вырывать, прятать подальше. Да все потом бояться, чтобы у тебя ее не перехватили. Хлопот-то сколько, батюшки!.. А горе-то, оно насколько спокойнее: не искать, не ловить, само пристанет да и потащится за тобой, как шелудивая собака. И, сколько ты его ни гони, не уйдет. И еще учти: у радости завистников много, а через то возникают разные неприятности и даже мордобой. А горюну кто же позавидует? Тут все, напротив, жалеют, стремятся оказать помощь, и некоторые даже помогают. И никто не обижает: мертвому в морду не дашь, нищего не ограбишь, с голого рубахи не сымешь. Ты своим горем-то, пока оно тебя не покинет, пользуйся. Требуй от людей. На горло им наступай. Врут, пожалеют! Найдутся жалельщики-то. Я, видишь, какой отчаянно обиженный, а в этом моем уродстве — мой талант. Нормальный бы я на что годен? Подумай-ка. В армии служить, шинелку носить. А может быть, меня давно бы фашисты затоптали, на войне-то? А так, видишь, живу… Живу я! Радуюсь.



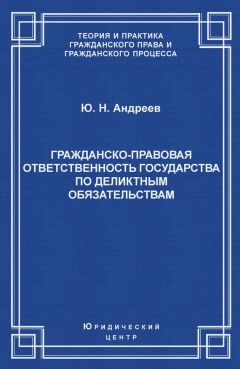
![Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/152078/152078.jpg)