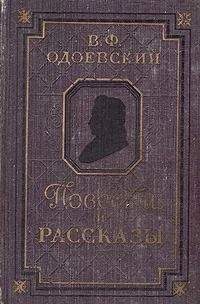Владимир Дудинцев - Повести и рассказы
А Федя постоял на крыльце, потом вошел в управление, в парткабинет. Не обращая внимания на сторожиху, которая переставляла стулья, он взял с подоконника банку с клеем, обернул книжку газетой и заклеил. Потом перешел к столу и написал на пакете печатными буквами: «Здесь. А. С. Шубиной». Вышел на крыльцо, оглянулся и сбежал по ступенькам в темноту, пахнущую молодой листвой тополя, — туда, где висел на стене почтовый ящик. Щель оказалась достаточно широкой. Книга упала в ящик. Надо полагать, это был в поселке первый пакет с адресом: «Здесь».
«Пусть еще раз улыбнется», — подумал Федор. Выждал несколько секунд, прянул в сторону от ящика и, громко стуча по доскам, пошел к себе в барак. Он и сам не заметил, как запел, загудел что-то себе под нос. Это не было похоже на бессмысленный птичий свист сытого человека. Пока Федя шел к себе, песня его несколько раз менялась — была то веселой, то задумчивой, то грустной: песня человека, живущего полной жизнью. Такой человек, как известно, стремится ко многому, и ему всегда чего-то не хватает.
1952 г.
Горная болезнь
Сегодня опять мой дом — палатка. Стропила из жердей, обтянутые серым от дождя брезентом. Полог у входа откинут, и мне отчетливо видны мои сторожа — сияющий Сказский ледник, который альпинисты называют просто «Сказка». и белый пик Адай-Хох. Сегодня с утра небо синее. Адай освободился от облаков, дождей больше не будет, и я слышу, как в соседних палатках, выше и ниже, как раз об этом говорят альпинисты.
Я топаю ногой посильнее, так, чтобы заметил мой сосед Кирила: она у меня здорова. Выхожу из палатки и сажусь на пенек.
Год назад доктор Иванов выгнал меня из лагеря и сказал, чтобы с моей ногой я больше никогда в горы не совался. Весь лагерь стал мне тогда чужим, я был отлучен, не мог вынести этого и поспешил уехать. После этого целый год я лечился электричеством, грязевыми и парафиновыми ваннами, и рана моя закрылась окончательно. Правда, вчера она вдруг начала чесаться и пришлось ее забинтовать, но это другое дело — прошли дожди.
— Кирила, — говорю я, — что бы ты делал, если бы на всю жизнь остался, скажем, хромым?
— Если я когда-нибудь охромею, я разыщу тебя, — неторопливо гудит Кирила из палатки. Он вырезает из войлока стельку и любуется своей работой. — Ты ведь друг мне или нет? И один раз в году ты меня будешь таскать на какую-нибудь вершину. А ты что — захромал?
— Нет. Просто я заметил, что ты нынче прихрамываешь на обе ноги.
— Ты о Любке? — он все еще любуется стелькой и даже насвистывает.
— О ком же!
— Н-да, — говорит Кирила и, поглядев на меня через роговые очки, принимается за вторую стельку. Он разложил войлок на загорелых коленях. Почти бесцветные, с яичным оттенком, прямые волосы падают ему на очки. — Ошибаетесь, молодой человек, — говорит он баском. — Мы с такими девчатами разговариваем только на «вы».
Внизу подо мной, между соснами, волейбольная площадка, как большая песчаная ступень, врезана в склон. Над нею взлетает мяч.
— Чем любуешься? — спрашивает Кирила из палатки.
— Любуюсь известным вам лицом. Она на площадке.
— Какое на ней сегодня платье?
— Косы и купальный костюм.
Вырезав стельки, Кирила вкладывает их в огромные ботинки, подбитые железными зубцами. Затем в молчании неторопливо надевает свои особенные, узкие штаны — спортивные штаны собственной конструкции, которые не надо гладить, потому что на них вместо складки навсегда застрочен специальный рубец. Кирила заправляет в них клетчатую рубаху со спортивным значком, и я знаю, к чему это клонится. Он выходит из палатки и пристально глядит вниз.
— Я еще не захромал, но могу захромать, — признаюсь я, глядя на его широкую спину.
Он не отвечает.
— Доктор не подвел бы. А, Кирила?
— А ты сходи, — он задумался над моей бедой, даже посапывает. — Сходи. Я поговорю с ним.
На площадке заметили нас, зовут играть, и Кирила рысцой сбегает по склону, расшвыривая во все стороны сосновые шишки.
И вот он уже внизу, стоит, не глядя на Любку и пропуская мячи. Как и всегда, над ним смеются на волейбольной площадке. Он не умеет играть. В горах — другое дело. Все знают, что совсем недавно он с мастерами спорта взял вершину Сангути, маленькую и неприступную скалу, и последние метры лез вверх босой и без перчаток, припадая к отвесному камню. Любка знает об этом и вместе со всеми смеется над ним.
После обеда я поднялся к себе в палатку и, оберегая ногу, поскорее лег. И опять в палатку вдвигается, как белое видение, как седой патриарх, мой строгий Адай, вызывает на богатырскую встречу. Но я не боюсь, любуюсь моим противником. Вот и пойми альпиниста: только ради него, Адая, я два года лечил ногу — с того самого дня, как вышел из госпиталя. Завтра я стану маленькой черной точкой на белом темени Адая, и доктор Иванов отсюда, из моей палатки, будет отыскивать меня в свою подзорную трубу. А послезавтра, измученный, вернусь и весь день буду ходить по лагерю, как в тумане, подвергая себя последнему испытанию: рассказывать о трудностях и победах в лагере нельзя. Здесь все такие, палаточные жители!
Кирила после обеда пришел в дурное настроение. Он, сопя, снимает рубаху, швыряет свои ботинки под койку и бросает на меня недобрые взгляды. Не Любка ли виновата, спрашиваю я, и он отвечает вопросом:
— Ты никогда не был носильщиком? Нет? Так вот, станешь инструктором — узнаешь, что такое носильщик.
Койка тяжело скрипит под ним, и он, как залег на койку, так и замер, заснул, не снимая очков, темный, полуголый, желтоволосый великан в узких штанах с вечной складкой.
И вот я слышу шаги — к нам идут. Сначала я вижу сарафан — белый с красным горошком. Потом появляется и круглое от счастья и улыбки лицо, серые чистые глаза отыскивают меня в полумраке палатки — и тихо так становится вдруг в мире.
— Боги спят, — говорит Любка.
Вокруг становится еще тише. Как хозяйка, она смело садится у входа на наш треснутый пень.
— Пойдем малину собирать, — предлагает она, перебросив русую косу из-за спины на грудь. — Эй, ты! — и тормошит мою больную ногу.
Я уже не борюсь с ее властью и не боюсь подчиниться ей, как боялся всего лишь неделю назад. Я привык уже к этой нежности ее глаз и тишине. Не хочу, не хочу верить им!
— Видишь, Любка… — я спокоен и даже потягиваюсь. — Видишь ли, какая штука, я завтра иду на Адай. А сейчас у меня дело — стиркой займусь, пойду на реку.
— Успеешь, — говорит она неуверенно. — Я ведь тоже вот иду завтра с вами…
— Ты? — я даже привстал. — Это же второй категории вершина.
— Ну и что же? Я на единицах уже бывала. Пора и на двойку.
— Кто же тебя возьмет?
— Кирила. Вот этот самый. Я попросила, и он согласился. Он и кошки взялся мне подобрать и штормовой костюм.
«Значит, подберет и кошки. Хо-хо! — думаю я. — Ну, Кирила, ты пропал!»
— Вы все неблагодарный народ, — говорю я Любке, зевнув, — сегодня дарите улыбки, а завтра, когда вас втащат, вам того и надо: до свиданья, носильщик! Любка, у тебя ведь занятия в институте, ты ведь уезжаешь через три дня, что ж так разулыбалась сегодня на площадке? Тебе не жалко его?
Любка краснеет, рассматривает ногти, корявые, изломанные на скалах.
— Да ты не обижайся, — после обеда я настроен миролюбиво. — Давай поговорим. Только условимся: говорим правду. Тебе хочется взойти на настоящую вершину. На опа-а-асную… — я подчеркиваю это, выставив палец. — И сфотографироваться там. Ты в этом не виновата. Просто хочется тебе и все! Приедешь в Москву — ребятам снимки покажешь. Правда? И кто виноват, что у тебя сил не хватает на это? Разве тебя можно сравнивать с нами? И вот приходится брать носильщика. Никуда не денешься.
— Я тебе сейчас покажу, я не так уж слаба! — Любка еще больше краснеет, ей неловко, она тянет меня за ногу, хочет стащить с койки.
Тогда я быстро приподнимаюсь и, поймав рукой ее запястье, сильно сжимаю, и она никнет, вот-вот станет на колени.
— Теперь тебе все понятно? — говорю я, наблюдая ее. — Держись крепче за Кирилу. Ты не ошиблась.
И тогда, молча встав и уже не заботясь о косе, она уходит.
Доктор Иванов тоже альпинист. Это он еще пять лет назад назвал горной болезнью мое пожизненное увлечение снежными вершинами, что тесно обступают Цейское ущелье. Он и сам болен тем же, но сердце и полнота не позволяют ему подниматься выше трех тысяч метров. Поэтому он и завел себе подзорную трубу и наблюдает все восхождения снизу.
Он живет под каменной кручей, высокой и заплесневелой, в маленьком домике, окруженном соснами. Нога моя здорова, я легко взбегаю по склону и вхожу в домик. Доктор встречает меня, одетый, как и все в лагере, в черные трусики.
— Что ж ты приехал? — начинает он докторский разговор, надевая халат. — Ведь я сказал тебе в прошлом году: езжай и не показывайся больше.