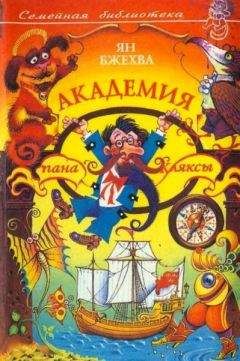Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Практически, кроме кладбищенского рассказа и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я от него ничего и не успел узнать.
Возможно, здесь сыграло роль то, что, как много раз уже объяснял, я не умею расспрашивать людей о них самих. И когда почувствовал под пиджаком Александра Борисовича пуленепробиваемый жилет, то отказался от всяких попыток.
Решили почитать письма Виктора Платоновича. Здесь Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно, боясь принести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес. И узнал Александр Борисович адрес окольным путем и сразу отписал.
12.12.86
Шура! Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских «девушек», и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом самом кармане и… Ну, дальше сам можешь догадаться…
Значит, жив-здоров, естественно, на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь по-прежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши…), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими… Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и… мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?
Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя не ношу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагается фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев… Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал…
Тронут твоим вниманием посетить мамину могилку на Байковом кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киеве по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.
За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуи тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши.
Вика
21.01.87 (получено 2.02.87).
Дорогой Шура! Посылаю тебе фотокопии нашего с тобой «Зуава». (Куда делись «Ночные разбойники» — ума не приложу.) Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Тоже пришлю. Все же раритет… Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами — радости моей не будет конца. Будете у Борьки — самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!
А не загадываешь ли ты в период перестроек, демократизации и либерализации — сигануть не только на Кавказ, а допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни. Я, во всяком случае, хотя, в противоположность внуку, и не офранцузился, но парижанином стал. Знаю и люблю этот городишко…
О получении «Зуава» сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней — с 27.01 по 2.02. Прогресс!..
На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева — переводчица Кафки, Белля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была в морской пехоте в звании старшины 2-й статьи. И когда звонит, представляется по всей форме; «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать?..»
Звонила Евгения Александровна, ибо только что получила письмо от Фриша из Цюриха. Максу не работалось, он хандрил, пил свою швейцарскую водку, мечтал скорее приехать в Союз.
— Вы помните, что для Фриша значит, когда его покидает работа? Ну, из «Первого дневника»?
Я, конечно, не помнил, хотя Фриш мне чрезвычайно, даже до некоторого суеверного страха близок, иногда даже текстуальными совпадениями в своих вечно фрагментарных рассуждениях.
— Работа, — объяснила Женя, — это единственное, что избавляет Макса от ужаса, когда он внезапно, беззащитный в своей нейтральной Швейцарии, просыпается среди ночи или ранним утром. Сразу же посмотрите сто тридцатую страницу «Листков из вещевого мешка».
— Сейчас посмотрю, — сказал я. — А пока угадайте, кто сидит у меня в гостях?
Я знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его, ибо нельзя работать над Беллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. И я знал, что старшина 2-й статьи обрадуется, узнав, что у меня в гостях сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.
Ну, она, конечно: «Ох и ах!» Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов — он был еще в сознании — просил дважды перечитать ему эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.
Я, конечно, передал. Правда, ни о Белле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал: технарь-строитель мостов через всякие разные знаменитые реки, но без знакомства с мировой литературой. А я-то сразу сунул ему «Листки из вещевого мешка», дабы похвастаться автографом Фриша, где он желает мне счастья на море, за письменным столом и повсюду. Но никакого впечатления на моего гостя автограф знаменитого прозаика не произвел, хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую „Тайну бандитов“, которая заканчивается, на мой взгляд, динамично: „Геркулес“ догнал „Баторию“ и всадил ей в борт таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует). Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды, — пишет Некрасов. — Но где же продолжение „Бандитской тайны“?
Присланные тобою фото возвращаю».
— Эти фото я ему посылал, — объяснил Александр Борисович. — В начале июня. Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти — удивительно… Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй…
Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:
«Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать? Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь…»
— Странное состояние, — прервал меня Александр Борисович. — Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится. — Он сказал это со спокойным удивлением. Чего особенного? Разволновался человек от воспоминаний.
Я открыл форточку. На улице было около нуля, из форточки потянуло ленинградской стылой сыростью.
— Гололед, — сказал Александр Борисович. — Ужасный гололед. И курю много. Вот и дышится…
За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.
— Виктор Платонович смолил почище вас, — сказал я.
— Гололед, — повторил Александр Борисович. — От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался…
Этот лифт угробил и мою мать, и еще троих пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов…
— Как у вас сердце? — спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.
— Никаких плохих ощущений.
— А раньше что было с сердечком?
— Нет. И на пенсии недавно — четыре года как бездельничаю.
Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Рука у Александра Борисовича была полная, но плотная, пульс я нашел без особого труда. Он показался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам — тридцать секунд — сорок пульсаций.
— Оно у вас работает, как у космонавта, — сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.
— Да, это не сердце, — сказал он. — Дышать трудно. Странное ощущение…
— Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.
Мы пошли в кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно. Я открыл балконную дверь и посадил его перед ней на стул. Одной рукой он оперся на стол, но сидел прямо. А в меня потихоньку стал заползать страх: цвет лица не нравился. Я накапал кардиамин, валерианы и дал ему. Он выпил очень послушно. Это тоже не понравилось. Мужики часто отмахиваются от всяких разных капель.