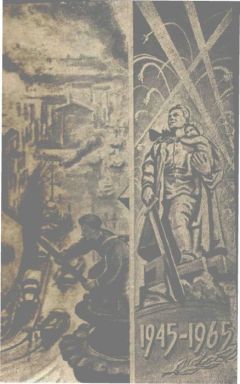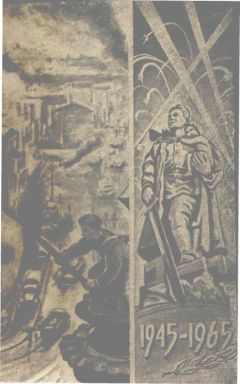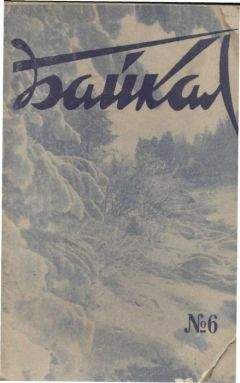Владимир Митыпов - Инспектор Золотой тайги
– …И подумал я тогда про эти развалины — кто знает, может, здесь–то и стоял улус князя Батоги… А может, это казаки срубили острог… Дело, Аркадий, темное, давнее. В тайге иной раз и не на такое набредают… Но то все случилось много позже, а в тот вечер я долго сидел у костра…
Да, не до сна ему было в ту ночь, как, впрочем, и во все другие, пока плыли по великой таежной реке. Нежданно для себя самого он обнаружил вдруг, что посещение жутковатого обиталища сидящего скелета всколыхнуло в нем почти угасшие надежды. Кандалы, старательский лоток — нет, все это очутилось тут неспроста…
Вокруг тлеющей нодьи[4] похрапывали мужики. Положив морды на лапы, вполуха дремали две зверовые собаки. Время от времени слышно было, как в полутьме поодаль возятся и кряхтят караульщики: о здешних местах шла прочная худая слава, а варначьи же тропы издавна пролегали вдоль рек.
Тот читинский бродяга, помнится, толковал о порогах, что лежат в одном дне пути от развалин вниз по Витиму. А верстах в семидесяти ниже тех порогов с правой стороны в Витим впадает ключ Орон, тот самый, золотой, заветный. «В устье его скала приметная стоит,— объяснял бродяга.— Огромадная, белая… верхушка у нее вроде маковки на церквах».— «А как те пороги узнать?» — допытывался Ризер. Бродяга в ответ глумливо захохотал, будто залаял. «Не пужайся, друг–золотнишник… гав–гав… Ты их с чем другим не спутаешь… Узнаешь сразу… На всю жизнь запомнишь, гав–гав!»
Сильно смущали Ризера эти неведомые пороги, что запоминаются на всю жизнь. Он вспоминал, и в синем скупом пламени нодьи вновь перед ним прыгало и кривлялось пьяное лицо варнака, а в ночном шуме реки слышался лающий смех…
Пороги возвестили о себе нарастающим ревом. Еще издали заметили: оба берега встают черными стенами, и впереди та же черная стена — река, видно, круто сворачивала,— а в темной горловине на всей шири взъерошенной побелевшей реки что–то бьется предсмертно, мечется, ревет в сотни глоток, и словно бы дымится река, как в крещенские морозы. Но недосуг было долго разглядывать,— побледневшие мужики, торопливо перекрестившись, схватились за шесты. Едва успели приготовиться, как плот, с каждым мигом разгоняя все шибче, втянуло в горловину меж скал. Мелко заморосило, пахнуло в лицо холодом, и все подавил собой тяжкий гул. Плот замер, дернулся и вдруг разом как бы ушел из–под ног,— кипящая вода ударила через весь плот.
Стоя на четвереньках и намертво вцепившись в какие–то веревки, оглохший, мокрый Ризер видел слепо вытаращенными глазами только одно — плот, то и дело уходя под воду, неудержимо несется на скалу, а она надвигается, нависает, заслоняет собой весь белый свет. И на краткий миг невозможное предстало взору: вся эта каменная громада, двинувшись вдруг с места и неся по облакам, в страшной высоте, черную изморозь вершинных дерев, стала падать навстречу. Конец! Ризер закрыл глаза.
«Бей вправо!» — отчаянно завизжали сзади.
Когда Ризер открыл глаза, черной стены перед ним уже не было,— течение, отпрянув от скалы, увлекало их на середину реки,— прямо туда, где, вспоров бушующую толщу воды, в пене и брызгах грозно щерилась темная гряда. Как завороженный, забыв обо всем, уставился Ризер на хищный каменный оскал. Плот перекосило, вздернуло на дыбы.
«Бей влева–а…»
Что–то ударило снизу, хрустнуло, промелькнула у самых глаз необъятная темная глыбища,— и гряда осталась позади. Плот снова несся на отвесные скалы, но теперь уже левого берега…
В себя он пришел, когда плыли по странно тихой воде. Неистовый рев, который, казалось, заполнял недавно весь мир, с каждым мигом делался глуше, как уходящая за горизонт гроза.
Ризер сидел на середине плота. Ошалело моргая, вертел головой, отплевывался и не мог никак отплеваться — все мерещилась на губах ледяная шипучая пена.
Изот Кушнарев, среди мужиков самый старший по возрасту, с грохотом бросил шест и размашисто перекрестился.
«Пронесло… слава тебе, господи!»
Он вытер подолом рубахи мокрое лицо, покосился на мелко подрагивающего Ризера и хмуро усмехнулся: «Ну, мил–человек, по гроб жизни не видел бы я тебя с твоим окаянным золотом!..»
Однако ни Кушнарев с мужиками, ни тем паче Ризер не знали тогда, как небывало им повезло. Лишь много позже, когда на круто набирающие силу Оронские прииски гоняли десятки плотов за навигацию и почти половина из них обыкновенно разбивалась на этих порогах,— вот только тогда Ризер сполна изведал запоздалый страх, и по ночам на него опять и опять падала та самая черная скала, несущая по облакам, в страшной высоте, черную изморозь вершинных дерев…
Незадолго до обеда другого дня вдали из речного марева встала скала в устье Орона. Она и вправду была приметна,— сияя белизной, церковной колокольней поднималась над темной зеленью горбатого мыса.
Всей своей ширью, быстро и ровно шел Витим среди тишины летнего дня. Окрестные горы округлыми сизыми волнами спускались к его берегам. Безлюдье, вековая сонная оцепенелость, лишь слепящие блики пляшут на воде…
Едва плот, обогнув мыс, вышел в створ Орона, с прибрежного песка оторопело вскочил кто–то. Подумали сначала — медведь, ан потом разобрались — человек. Он застыл раскорячкой, пялясь на надвигающийся из–под солнца плот, потом едва не на четвереньках от поспешности ввинтился в прибрежные заросли и пропал бесследно.
«Да–а, господин купец,— покрутив головой, сказал дядя Изот.— Видать, у твоего золотишка–то уже есть хозяин…»
– …Да, Аркадий, это было самое страшное,— сказал Ризер с грустной и обращенной внутрь себя улыбкой.— Оказывается, Орон уже долгие годы служил чем–то вроде банка для многих поколений беглых. Они запасались там золотом на дальнейший путь в Россию. Мне пришлось добывать его с боем…
Ризер не вдавался в подробности. Он не стал вспоминать о том, как стоял на коленях перед своими мужиками и униженно, со слезами, едва не целуя их сапоги, просил постоять за его дело, обещал им золотые горы; как трое его людей погибли в схватке с беглыми; как ему пришлось потом вступить в переговоры с варнаками и выпустить их со всем, что они успели настараться; как, уже вернувшись в Читу, он жестоко надул своих мужиков,— ему были нужны деньги, много денег, чтобы рассчитаться с долгами и по–настоящему начать дело. И уж конечно, он умолчал о том, чего и сам старался никогда не вспоминать,— как после долгих мытарств дядя Изот поймал его на читинской улице и принародно плюнул в лицо… Страхом и унижением начиналось его миллионное дело. Страхом же оно и кончалось. А унижение… О, унижения ему еще предстоят. Никому не дано провидеть свое будущее, и это благо, иначе Франц Давидович узрил бы замызганный номер харбинской гостиницы и себя самого, стоящего на табурете, с головой, продетой в петлю. Нет, не знает пока Ризер страшный свой конец, не знает и на многое еще надеется… Тупая боль мягко, вкрадчиво сжала сердце, отпустила и вернулась снова.
– Франц Давидович, вам плохо? — встревожился Жухлицкий, увидев, как вмиг побелело его лицо.
– Сейчас… пройдет,— хрипло сказал Ризер, закрывая глаза.— Это… это так. Трудно, знаешь, Аркадий, уезжать… Ведь вся… вся жизнь здесь…
ГЛАВА 11
Почти год, как безвозвратно ушло веселье из большого дома Жухлицкого,— сел Аркадий Борисович, как в осаду: ни сам никуда, ни к себе никого (старатели, разные артельщики и прочий люд, конечно, не в счет). Пафнутьевна переживала это по–своему: нет гостей — нет в доме праздника, нет тех хлопот и суеты, окунаясь в которые стряпуха начинала чувствовать себя лицом значительным и даже как бы одним из первых в доме.
Лет двадцать назад со своим мужем, которого все звали просто Савкой, попала она в Золотую тайгу. Богатства большого не нажили, но без куска хлеба тоже не сидели. Но потом случилась беда — деда Савку, тогда еще жилистого работящего мужика, придавило в шурфе. Убить, правда, не убило, но покалечило крепко. От старательства пришлось отказаться. Так и попали они в число челяди дома Жухлицких в Баргузине — дед Савка сторожем при амбарах, а Пафнутьевна стряпухой. Пафнутьевна смолоду готовила отменно — научилась, живучи сначала у господ в Иркутске, а потом в Чите у купеческого брата Бутина. Правда, старший Жухлицкий до еды был охотник невеликий,— болен нутром, а потому обходился все больше сухариками да жиденьким бульоном; и гостей принимал редко когда, но старанье Пафнутьевны приметил и мастерство ее ценил. После смерти отца Аркадий Борисович забрал стряпуху с мужем к себе на Чирокан. И уж тут ее талант развернулся по–настоящему. Аркадий Борисович, мужчина здоровый, любящий поесть и выпить и хлебосол на всю тайгу известный, часто говаривал: «Ну, голубушка Пафнутьевна, будут сегодня люди, покажи себя!» И Пафнутьевна показывала. Ах, какие яства она готовила! Какими, черт возьми, пирогами, окороками, домашними колбасами, напитками и разными сладкими заедками потчевала она горных исправников, богачей золотопромышленников, господ ревизоров из Читы и Иркутска, гостей из самого Петербурга и даже из заморских стран — Америки, Англии, Бельгии! Что говорить: немалой считалось честью погостевать в хлебосольном доме Аркадия Борисовича и отведать чудо–стряпни Пафнутьевны… И каково же после этого жить в притихшем, настороженном доме, слыша, как уныло побрехивают по вечерам собаки да все ходит и ходит у себя наверху без сна Аркадий Борисович…