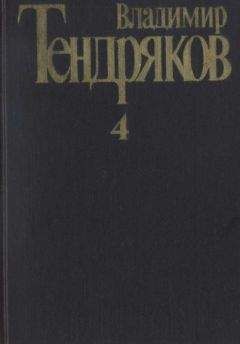Владимир Тендряков - Кончина
Одна из тех, что первыми нападали на Евлампия из бабьей толпы. Алька, невестка старика Матвея Студенкина — в двадцать один год осталась вдовой.
Не высока, но «рюмчата» — талия узка, а бедра просторны, тяжелы и плечи. Щедрое Алькино тело нельзя было скрыть никаким платьем, оно шевелилось, гуляло, жадно зазывало к себе из-под вылинявшего ситчика.
— Чего одиночкой-то? Садись, подвезу.
Охотно согласилась. Из-под юбки вынырнуло колено, белое, кованое, задела плечом его плечо, чуть-чуть, но обожгло так, что потемнело в глазах. Она чинно оправила юбку, выпрямилась картинно, наглядно означился весь бабий рельеф.
Шевельнул вожжами, чувствуя сухость во рту, с хрипотой признался:
— Жаром от тебя… Каменка каленая.
— Поди, прозяб с женой-то? Пришел бы — погрела.
— А вот возьму да приду.
— Напужал.
— Только ведь ты со свекром под одной крышей…
— Ну и что?
— Мне перед простым конюхом стеснение чувствовать — навроде унизительно.
— Эк, задачка. Да ставь его, козла старого, хоть кажную ночь на дежурство в конюшне.
На другой день Евлампий определил дежурство по конюшне: получалось, старик Студенкин дежурит через ночь. Кажись, свободушка, но темным вечером, когда крался к Алькину дому, робел — не простой ты человек, на виду, при почете, даже от фронта освободили, а тут — разговорчики, репутация засалится, еще моральное разложение пришьют, долго ли… Робел и так задумывался на глухой короткой тропе за огородами, что перед дверью Алькиной избы почувствовал — похоже, и не рад. Но и отступать несолоно хлебавши не его манера. Постучал…
А она встретила в белой кофточке, под тонким шелком гуляют груди, сдобные руки оголены. Окна занавешены, стол накрыт, на столе бутылка и закуска не очень мудрящая. И кровать у стены — пухлая, как сама хозяйка, без морщинки.
Евлампий смущенно вынул нагретую в кармане поллитровку:
— Вот и я принес к столу…
Она усмехнулась свежими губами:
— Зачем?.. Ныне такое время — бабы угощения ставят со спасибом большим.
Альку Студенкину определил своей секретаршей, чтоб была под рукой. Спасибо Альке, она не только подарила то, что как-то заменило соловьиные вечера, но и открыла глаза на самого себя… К себе аршин приставлял, каким всех меряют. Забывал, где другие вплавь барахтаются, тебе по колено. Уж ежели тебя от фронта освобождают, то грешок-то как-нибудь простят.
Спасибо Альке — стал еще тверже стоять на ногах!
Альке спасибо, а уж сама-то Алька должна вдесятеро его благодарить: не постничает, как все бабы, чистая работа с карандашиком, и будь осторожен — силой стала. Даже потом, намного позднее, когда ее силы поубыло, все равно с ней считались — сам заместитель Лыкова Чистых к Восьмому марта с улыбочкой духи подносил.
Жена в самом начале пыталась даже попрекнуть:
— Срамотник ты…
Но Евлампий с ходу обрезал:
— Ты давно в зеркало гляделась?.. Нет?.. Так погляди!
И раньше-то в семье он — гость не гость — жилец, не более: весь день-деньской на стороне, только ночь под крышей, теперь и этого нет. Жена покорилась. Старший сын Климко — ни в мать, ни в отца — золотушного здоровья и обидчивого характера, смотрел волчонком. Ребятишки, его сверстники, не стеснялись, доводили до того, что исходил бешеной слюной, бросался в драку, а так как был слабенек, то били. Евлампий на это внимания не обращал — еще тут тратиться, когда на важные дела тебя не хватает.
Бабы и девки люто завидовали Альке, ждали — не на век же она Евлампия обротала. Евлампий-то — конь норовистый, рано или поздно узду порвет, а уж тогда: «Поласкали кобылу — хватя, теперь кнута попробуй». Не будет житья Альке.
Алька сама пошла навстречу беде, чтоб та не застала ее врасплох.
Евлампий стал косить глазом на Соньку Понюшину. Алька — к ней. Серьги Соньке подарила, чулки, кофточку и кучу похвал — мол, молода, кровь с молоком, где мне… Сонька-то — не овечка-ярочка, тоже телеса распирают, без парней бесится. А возле Альки — грех заветный живет. Сонька без Альки, как без рук. И Евлампий Никитич — тоже. Нужный человек Алька.
Алька как сидела, так осталась сидеть у дверей лыковского кабинета: «Евлампий Никитич сею минуту занят, повремените чуток». Уж коль все счастье не удержишь, то хоть часть приберечь.
Бабам и девкам оставалось одно — еще пуще поносить Альку. На здоровье. Алька не злобива, обид не вымещала.
Евлампий Никитич — конь норовистый. Что там у них случилось с Сонькой, Алька не интересовалась — ссоры да разлуки не ее дело. А вот помочь — пожалуйста. Настя Кучерова льнет к Альке. Неспроста…
Как-то Евлампий Никитич шагал со скотного двора домой. Стоял теплый августовский вечер, круглая луна держалась сбоку, перешагивала с крыши на крышу. Где-то в глубине села у клуба — не всерьез, понарошку — тосковала гармонь: «Летят перелетные птицы…»
Нет, вечер не соловьиный, со смутным запашком осени. Но вот в такие-то вечера человеку на возрасте приятно оглянуться назад. Был Пийко Лыков, полубатрак, полурабочий, резал бревна на тес, ходил в залатанных штанах, а нынче войди в любой дом — охи, ахи, суета, звон посуды: «Эй, баба! Что есть в печи, на стол мечи! Гость особый!» Каждый здесь счастлив тем, что живет в одно время, под одной луной с Евлампием Никитичем Лыковым.
Соловьиных вечеров он так и не узнал, но разве они могут сравниться с минутами, когда до ноздрей захлебываешься полнотой жизни. Чего не хватает? Пусть любой попробует отгадать. Не сумеет. Все есть у Евлампия Лыкова, все, о чем только может мечтать человек.
Евламний Никитич шагал и отдыхал. Навстречу двигалась рослая фигура. Кто бы он ни был, обязательно первым отобьет поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич!» Кто бы ты ни был — согни голову.
Луна выпуталась из верхушки березы, осветила улицу и человека посреди нее: бескозырка, узенький бушлатик, плескают широкие штанины над пыльной дорогой. Приезжий, из отпускников… И вдруг Евлампий Никитич признал — Мишка Чередник, приемный сын бригадира строителей Михаилы Чередника, того самого, что когда-то в голодный год, опухший от водянки, приполз под крыльцо конторы. Парень у Чередника вымахал на удивление, косая сажень в плечах, и в фигуре сейчас что-то настораживающее, никак не «доброго здоровья». А кругом ни души, а путь-то перекрывает…
Евлампий Никитич помнил, что еще месяц назад он прислонялся к Гальке Чащиной. Мишка до призыва с ней погуливал, писал письма. Раз приехал — обстановочку, видать, выяснил.
Плечи у него широкие, кругом пусто…
И не стал дожидаться, когда Мишка-матросик отобьет узаконенный поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич», круто свернул, поднялся на первое крыльцо, постучал.
Оказывается, верно сделал, что свернул. Мишка-матросик, рассказывают, перед отъездом жалел: «Не пришлось вырвать клок с мясом, а надо бы».
Он же — Евлампий Лыков! Кой-кто это запамятовал. Ему ли с опаской ходить по своей земле, ему ли нырять в подворотни, оглядываться по сторонам?..
На крытом току произошла драка. Схватились за грудки Леха Шаблов, механик с молотилки, и шофер с грузовой машины Гришка Фролов. Они вечно сцеплялись и всегда на людях, не из-за старых обид, не девку делили — никак не могли решить: кто сильнее?
Леха — рожа, что пшеничный каравай, во всем громаден, плечищи покаты и объемисты, кулак — шапку надеть впору. Гришка на полголовы ниже, подбористее, плечи прямые, с размахом, грудь круто сужается к сухим бедрам, руки длинные, кулаки вроде небольшие, но каждый — камешком. Как-то парни сговорились и впятером налетели на Гришку, все пятеро — лбы здоровые. Трое легли, двое сбежали.
Вдвоем с глазу на глаз Леха и Гришка могли беседовать, как все добрые люди, без гонору. Но лишь встреча при народе — любое слово затравка.
— Поди, Леха-то полегче тебя мешок на спину кидает.
— С мешком, верно, сноровист.
— Словно я на себе твою сноровку видел когда.
— Иль за ремешки подержаться хочешь?
— Ужли боюсь?..
Слово за слово, брались за ремешки, начиналось слоновье топтание, пыхтение, спор:
— Ты чего на коленку берешь?
— Возьми и ты.
— Возьму — окосеешь.
— Ух!
— Опять коленкой! Сверну шапку назад.
— М-мотри, шустрый.
— Опять… Да я тебя, гниду!..
— Ах, гнида!
Трещит Лехина скула, голова рвется с шеи.
— Н-ну-у!..
От Лехиного разворота с плеча Гришка Фролов пятится задом, давит визжащих баб:
— Ой, маменьки!
У Гришки руки длинные, достает кулаком — раз, раз, еще, еще! Мотается Лехина голова, но не собьешь — тяжел, прет прямо на кулаки, пытается нащупать Гришкин загривок, мнет его так, что и у быка шкура бы лопнула. Гришка вырывается. Раз! Раз!..
Валится кладка снопов, падает труба с грохотом, визжат бабы.
— Сторонись, кому жизнь дорога!