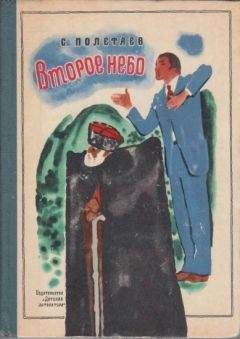Виктор Шкловский - О теории прозы
Хотя мир достаточно разделен океанами и горами, но он как бы собирается, или, по крайней мере, он может быть собран.
Так, как собирается большая река из маленьких притоков.
Возникает теория заимствований.
Возникает теория однородности в прямом смысле.
Существовал Рим. Существовал долго, сливая разное в единое. Отбирая живучее, совершая несправедливости, кажущиеся заранее продуманными. Подсказанными.
По разрыву существовал Китай.
Они были разделены хорошо, но случайно и страшно.
Моря были еще не исследованы. Ветры не стали привычными.
Скалы не расступились еще перед человеком.
И вот две культуры, два набора решений – китайский и римский – или, точнее, греческий – жили разъединенными.
Потом не сразу, мало-помалу обозначаются своими голосами, а между ними возникают приемы, группы умений Средней Азии.
Это был как бы коридор между двумя культурами, который не обозначается. Становится самостоятельным.
Люди разных культур знакомятся друг с другом, как будто они люди с разных планет, знакомятся через самостоятельный, становящийся самостоятельным коридор.
Возникает, быть может, равная первым двум, третья культура; назовем ее среднеазиатской.
То, что я говорю, кажется поспешным. Кроме того, знаю, что выше уже было сказано про Кушанский коридор.
Но знаете ли вы, что по среднему течению Пянджа открыт греческий античный город?
Античный город с храмами и улицами не может существовать меньше, скажем, чем сто лет; поставьте двести лет.
Легенда говорит, что Александр Македонский дошел до Памира, но краткий вояж завоевателя несравним с культурой, местом ее обитания.
Выезд для ознакомления с новым происходит всегда трудно, иногда случайно.
Так, случайно, Колумб открыл Америку.
Оседлые земледельческие культуры как бы не замечают культуры степей. Культуры, разделенные громадными пространствами.
Степные скотоводы строят свои кибитки из некрепких материалов, но уже имеют свои злаки. И, может быть случайно, создают из отметок на грифах музыкальных инструментов ноты.
Дают этим нотам имена. Имена, которые потом станут международными.
Но камни, разные камни, имеют свои подобия разлома.
Смена трав, смена похожих эпох рождает, создает третьи культуры.
Очень далекие культуры Севера как будто остаются на месте. Северный олень, немногоплодящий и немногодающий молока, потом, в новых культурах, станет священным животным.
И лошадь, уже выбранная для приближения к человеку, лошадь – старший брат осла – порождает странную двойственность Росинанта и осла Санчо Пансы. Мы даже не знаем из романа, имеет ли осел Санчо имя, ведь он второстепенен.
Возможно, что именно у океана, появляется жажда таких отношений полов, которые создают поиск вот именно этого человека, этой женщины.
Потому всепонимающий мужчина говорит о любимой женщине: «Пора пришла, она влюбилась».
Она расцветает, как травы в пустыне весной, которые оплодотворяются волнами ветра.
Меджнун, полюбивший Лейлу, носит имя безумца. Он влюблен именно в эту женщину, выделяет именно ее, и даже собака со двора Лейлы для него уже приближение к ее личности.
Разные культуры – это деревья, которые гнулись разными ветрами.
Сравним новеллу китайскую и среднеземноморскую.
Женщину иначе любят. Ее иначе отбирают, оценивают. Иначе одрагоценивают.
И в Китае, как и в Европе, как и в Индии, существовала одна особенность – оборотни. Повторяю, что китайский оборотень, насколько я знаю по переводам, никогда не становится опять тем, чем он был до превращения. Существует женщина-лиса, но она лисьей породы – вполне.
Существует человек-рыба; он также вполне человек-рыба.
Существуют разные отношения между людьми, разные характеры.
Разные представления о том, как видеть разные вещи, – слева направо или сверху вниз.
Разные представления о личном.
В китайской лирике есть упоминания о крике обезьяны, этим сразу дается представление о том, что многие личные дела и сражения происходят в пустыне.
И плач одинокого младенца, одиночки в этом огромном народе, он звучен.
Здесь свое отношение к цвету, к краске, к празднику, к ответственности людей друг перед другом.
Одна из гималайских вершин иногда полушутливо-полузавистливо именуется третьим полюсом. Так она недоступна.
Великое человечество величественно в великом единстве.
Но китайская культура имеет свой китайский спрос с человека: выносливость, жажду жизни, разнообразное понимание почерка не как почерка писца, а как линии художника.
Здесь картины не вставляют в рамки.
Прочтите несколько китайских новелл. И не огорчайтесь, что они не похожи на все, что вы читали прежде.
Обрадуйтесь тому, что драгоценные камни по-своему преломляют солнечные лучи, создавая как бы другую природу.
Китай должен быть открыт так, как было открыто Колумбом не только пространство Америки, но и культура, и ветры, и законы заблуждения.
Человечество живет огромными планетообразными культурами.
Мы не разглядели этого, хотя имеем пароходы, автомобили и даже смогли создать эту непонятную фотографию.
Человечеству пора вырваться за пределы материков.
Оторваться от белых венцов, что сами стремятся как бы отделиться, они окаймляют все семь, простите, шесть островов.
Ни автомобили, ни пароходы, ни самолеты не помогут.
Помогут люди, такие, как Марко Поло.
Теперь надо вернуться во дворец Божественной пустоты.
Там живет дракон Дунтинху.
Дочь его пасет овец, а это были не овцы, а раскаты грома.
Но надо рассказать об Образе Глиняного Кувшина.
Рассказ об Образе Глиняного Кувшина мне подарил А.Н. Строганов.
Ведь сущность, содержание Глиняного Кувшина есть его пустота.
Туда наливают разное содержимое.
Образ древнекитайской философии.
Ведь и мы ставим стены, помещаем их между двумя плоскостями, прорезаем двери, окна и останавливаемся на пороге.
Перед тем как войти.
Многие сказки, фольклорные рассказы передают этот момент, вводя подробность об ушибленном лбе; надо наклонить голову, перед тем как заполнить собой пустоту.
И вот теперь, вполне последовательно, обратимся к Пушкину.
Снова это его стихотворение:
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей –
оно сопровождает меня долгие годы.
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?
Вечная музыка Священного Сосуда, она рассказывает о тайнах наполнения.
4. Первый неудачный чертеж кита
Душечка
В конце «Анны Карениной» Лев Николаевич говорит не только голосами своих героев; Толстой как бы подводит итоги своего романа.
Безжалостные итоги. Никто не заступился за раздавленную женщину. Даже сын говорит с дядей, стараясь забыть о том, как его любили. Его – Сережу.
В словах, в путанице слов, в беззащитности Анны Карениной есть беззащитность самого Льва Николаевича. По старым законам и примечаниям к законам, правительство, а хотите – губернатор, мог назначить попечителя, который бы помог правительству сберечь имущество Льва Николаевича Толстого.
Попечителем должна была быть его жена. Ему угрожали серьезно. Лев Николаевич, трижды великий человек, был осажден наследниками. При разделе Толстой сидел даже не в кабинете, очень скромном, он сидел в полуподвальной комнате со сводами; делили столовое серебро, делили лошадей, делили деньги и выравнивали деньгами неодинаковость цены земель, земли, идущей в долю наследникам.
Лев Николаевич жил среди людей, которые приписывали себе не только имущество, они признавали все частями еще недоразделенного.
Но и Толстой увеличивал некогда свое земельное богатство. Скупал неудачно, заниженно оцененные земли, пережил ужас страха смерти среди неразделенной семьи.
Сыновья и дочери брали куски раздела как будто неохотно, но бестолково точно.
Потом Толстой защищал семейную правоту. Он очень строго относился к жене, которая приблизительно в это время чуть ли не полюбила хорошего композитора.
Она уезжала слушать его концерты. Лев Николаевич был ревнив. Ревнив к своей славе. Он уважал свое происхождение, понимал, что им написано. Он тонул в противоречиях старого и нового.
Толстой, человек будущего, хотел быть реставратором старого. Он хотел, чтобы дворянство занялось хотя бы своими землями. Но земли при освобождении крестьян прирезали к старым дворянским землям.