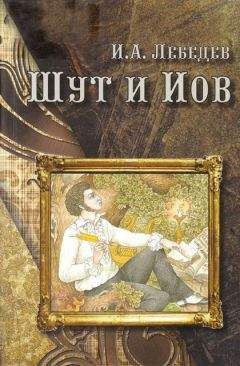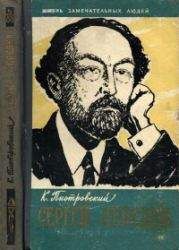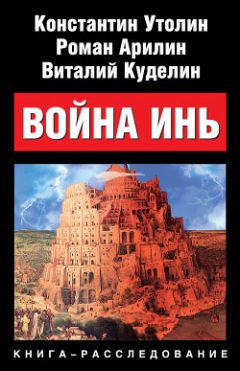Константин Лебедев - Дни испытаний
— Вы устали?
— Да.
— Очень?
— Да.
— Может быть, мне уйти?
— Обязательно,
— Тогда я ухожу. Я вернусь, когда вы отдохнете, — обрадовала она и упорхнула.
Ростовцев облегченно вздохнул, но оказалось, что это было преждевременно. Катя снова приоткрыла дверь и сообщила:
— Сейчас принесут завтрак. Вам хочется кушать?
Ростовцев, намеревавшийся ответить отрицательно, вовремя спохватился и прошептал, чтобы хоть как–нибудь избавиться от ее любопытства:
— Да, да, очень хочется, ужасно хочется… Но доктор сказал, что мне говорить вредно… — Он не докончил, услышав, как дверь, наконец, захлопнулась.
От принесенного завтрака Ростовцев отказался. Постепенно остывая, завтрак стоял на тумбочке не тронутым до тех пор, пока его не взяли обратно.
В этот день Ростовцев мог думать, о чем ему заблагорассудится, и мысли вереницей приходили в голову одна за другой. В конце концов ему стало скучно. Он был почти рад, когда перед обедом снова пришла Катя, принесшая лекарство. Однако, избегая ее бесконечных вопросов, он старался молчать и наблюдал одними глазами за «е действиями.
Лекарство он выпил с готовностью. Оно оказалось очень противным, но он не удивился, считая это в порядке вещей. В его представлении все лекарства имели самый гадкий вкус, и он про себя отождествлял эти два понятия.
Катя бесшумно исчезла, но через минуту вновь появилась с термометром.
— Это зачем? — спросил Ростовцев.
— Доктор велел мерить вам температуру три раза в день, — ответила она, без особых церемоний засовывая ему под рубашку термометр. — Обычно мы измеряем температуру только утром и вечером, — продолжала она, — но для вас сделано исключение. Доктор очень беспокоится за вашу ногу.
Ростовцев насторожился.
— Что же, если температура будет высокой, ногу отрежут? — спросил он.
— Я, право, не смогу вам этого сказать. А разве вы боитесь?
— А разве вы бы не боялись? — ответил он раздраженно.
— Девушке не идет быть безногой, — простосердечно заявила Катя и, решив, что этот аргумент не совсем убедителен, добавила для успокоения: — А для мужчины это даже красиво. Даже как–то интересно. Все будут знать, что вы смелый и храбрый и были на войне.
— Я желаю вам хромого мужа, — едко ответил Ростовцев, начиная опять злиться.
Катя, наслаждавшаяся собственным красноречием, пропустила его реплику мимо ушей и продолжала успокаивать дальше, как могла:
— Вы не бойтесь. Это совсем не страшно и очень просто. Я видела много раз. Говорят, что некоторые от крови в обморок падают. Вы не верьте. Наш доктор оперирует очень хорошо. Будет совсем не больно, и вы даже не заметите, потому что будете спать… — Катя вдруг спохватилась, поднесла палец к губам и, хотя Ростовцев не собирался ей возражать, предупредила: — Тсс… Вам нельзя много разговаривать. Вам вредно, и доктор…
— Доктор сердится, если его не слушаются. Он строгий, — докончил за нее Ростовцев.
— Да, да. Откуда вы знаете? — удивилась Катя.
— Слышал… Все доктора такие… А какая у меня была температура утром?
Катя потянулась к листочку, висевшему у изголовья, но вдруг, словно осененная неожиданно пришедшей мыслью, сказала:
— Нет, нет, этого вам знать нельзя.
— Почему ж?
— Это должно быть для вас секретом.
— Почему?
— У нас, медиков, существует правило: больной никогда не должен знать правды о состоянии своего здоровья, если оно тяжелое. Это будет его беспокоить, и он будет хуже поправляться.
— Вы, вероятно, недавно окончили школу и не успели забыть, чему вас учили? — высказал догадку Ростовцев..
— Вы правы. Я училась только на «хорошо». Все говорили, что у меня превосходная память.
— Это сразу заметно.
Катя расцвела и скромно потупила глазки.
— Однако, давайте термометр, — сказала она.
— Рано, — возразил Ростовцев. — Вы сходите, куда вам нужно, а я полежу еще.
Когда Катя вышла, он вынул термометр и поднес к глазам. Блестящий столбик ртути долго не давался взгляду, то пропадая, то появляясь вновь. Наконец, он поймал его. Ртуть стояла у цифры 39. Ростовцев осторожно постукал ногтем по резервуару. Столбик ртути отодвинулся вниз. Он постукал еще, снова взглянул на термометр и, удовлетворившись, поставил на прежнее место.
После обеда в палату пришел Ветров. Он не мог усидеть дома и решил навестить Бориса, беспокоясь за его состояние. Увидев на столике нетронутый обед, он поморщился. Едва поздоровавшись, он взял руку Бориса и, сосчитав пульс, удивленно поднял брови.
— Что за чепуха? — сказал он, пожимая плечами. — Кто мерил температуру?
— Катя… — с некоторой растерянностью ответил Ростовцев.
Ветров, не говоря ни слова, достал из кармана свой термометр и грубовато засунул его Борису подмышку.
— Быть этого не может, чтобы было тридцать семь… По пульсу вижу, что больше. Проверим… — добавил он и уселся на свободную кровать. Ростовцев безропотно подчинился и, чувствуя себя как напроказивший школьник, не смел поднять глаз. Пять минут прошло в молчании.
Наконец, Ветров все так же грубовато извлек термометр.
— Конечно, я так и знал. Тридцать восемь и восемь. Стукал?
Борис покраснел.
— Молодец! Всегда так делай! — Ветров сердито наморщил лоб. — Ты что, маленький? Дите неразумное? Или шутки со мной разыгрывать вздумал? Имей в виду, что себе только хуже сделаешь! — Он помолчал и, не слыша возражений, жестко докончил: — Если ты сам себе не враг, то лучше будет от подобных штучек отказаться. Иначе пеняй на себя!.. А обед этот придется все–таки съесть. Сейчас придет няня и тебя покормит… Пока!
Он круто повернулся и вышел. Сидящей за столом Кате он сказал:
— От больного в третьей палате при измерении температуры не отходить! Поняли?
— Да, — робея, ответила Катя.
— Обед им должен быть съеден. Последите.
— Хорошо… — ответила она и протянула ему телеграмму: — Прислали только что на ваше имя… Срочная.
Ветров разорвал скрепки и прочитал написанное. В телеграмме было:
«Еду первым поездом. Очень беспокоюсь. Примите меры. Рита».
Когда Катя появилась снова у постели Ростовцева, он вздохнул и сокрушенно заявил:
— А доктор ваш, Катя, действительно, сердитый. Вы правы были…
— Я же говорила… — произнесла Катя, усаживаясь рядом и беря в руки тарелку с супом. — Я вас покормлю сама, без няни.
Она поднесла ложку к его лицу, подставляя руку, чтобы не запачкать одеяло. Ростовцев вздохнул еще раз и без возражений открыл рот.
3
Тамара никогда не считала себя сколько–нибудь выдающейся девушкой. Еще будучи в институте и присматриваясь к подругам, она как–то не занималась сравнением себя с ними. Она была дружна со многими и на многих из подруг ей хотелось походить. Но были среди них и такие, которые ей не нравились. Она не осуждала последних, но и не выражала своих восторгов первым, относясь одинаково сердечно и к тем, и к другим.
Она во–время сдавала экзамены, получая хорошие оценки, выполняла поручаемую ей общественную работу аккуратно и в срок, но это не мешало ей присутствовать на институтских вечерах и танцевать здесь ничуть не меньше и не хуже других девушек. Ее также никто не выделял, но многие из сверстниц искали ее дружбы. Она не отказывала никому и с одинаковым вниманием выслушивала несложные тайны девических сердец, то печальные, то радостные, то удивительные, то смешные. Соответственно их характеру ей приходилось либо утешать, либо радоваться, либо советовать, и все это она делала одинаково искренне.
Она не была особенно словоохотливой, если говорила о себе самой, и не искала себе слушателей. Она не старалась быть обязательно первой, и когда на институтском собрании после выступления секретаря комсомольской организации с призывом пойти в армию зал зашумел и многие бросились к столу, чтобы записаться добровольцами на фронт, она, сидевшая в задних рядах, тоже встала и пошла вперед.
У стола создалась очередь, и где–то в середине между других темнела и ее шубка с глухим каракулевым воротником. Тамара стояла молча, спрятав руки в такую же каракулевую муфту, потому что в зале было холодно, и прислушивалась к тому, о чем говорили вокруг. Очередь двигалась медленно, и вместе с очередью подвигалась к столу и Тамара. Подойдя, она тихо назвала свою фамилию, проследила, чтобы ее правильно записали, и пошла домой.
Через день в теплой ватной телогрейке с небольшим рюкзаком за плечами, вместе с другими, она проходила по родным московским улицам, таким близким и знакомым. Было немного грустно покидать их и не знать, что ожидает тебя впереди. Она расставалась со своей Москвой, как со старым давнишним другом, и ей было жалко ее улиц, ее зданий, ее асфальтированных мостовых, ее метро и даже убежищ, в которых приходилось последнее время отсиживаться во время бомбежек. И вместе с тем было как–то особенно хорошо от сознания, что она поступает именно так, а не иначе