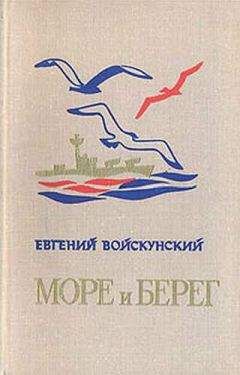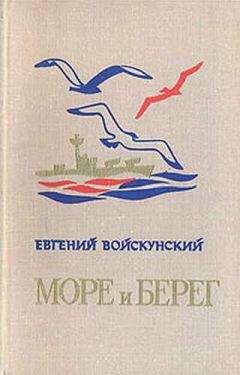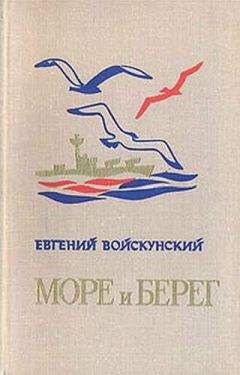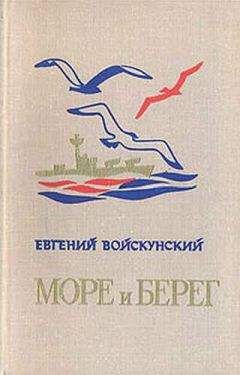Евгений Войскунский - Море и берег
— Мужчины, прошу к столу, — приглашает жена Троицкого Нина Михайловна.
Летом Толя видел ее несколько раз на заводе — она была полной красивой женщиной. Что сделала с ней блокада!
Нина Михайловна ставит перед Толей тарелку с коричневой жидкостью, кладет тоненький ломтик очень черного рыхлого хлеба.
— Объявили выдачу овсянки, — говорит она, тяжело опускаясь на стул. — Лучше всего все-таки варить суп, он лучше поддерживает силы. Как тебя зовут?
— Толя. Анатолий Устимов.
— Ешь, Толя. Кончится блокада — приходи к нам, угощу тебя по-настоящему. Что ты любишь больше всего?
— Не знаю…
— А все-таки?
— Я… котлеты люблю. И капусту…
— Да, если б капусты было хоть немного, — с грустью говорит Нина Михайловна. — Ведь такая простая вещь — капуста.
— Будет вам мечтать о капусте, — говорит Троицкий, принимаясь за суп. — Что есть капуста? Презренный овощ. Любая трава, произрастающая за Кронштадтскими воротами, заткнет за пояс вашу капусту по витаминам. Нужно только немножко разбираться в ботанике.
— Какая теперь трава, в январе? — говорит Нина Михайловна.
Толя старается есть медленно, у него слегка кружится голова от запаха супа, от тепла, растекающегося по телу, от блаженного, животного наслаждения едой. Будто сквозь туман, доходит до него тихий голос Нины Михайловны:
— Голод не потому страшен, что голодно, а потому, что убивает в человеке человеческое. Против голода нужно бороться, а если опустишь руки, подчинишься физической слабости…
— Знаем, знаем, — подхватывает Троицкий, — Нельзя опускаться, надо каждый день умываться и чистить зубы.
— Да, я это твердила и буду твердить, пока хватит сил. Умываться — это было мелочью до блокады, а сейчас — не мелочь. Сейчас по одной этой мелочи видно, каков человек: сильный или слабый, борется или подчинился голоду. Разве я не права?
— Права, права, кто ж спорит? Ты и меня, грешного, бриться заставляешь, хотя ох как не хочется иногда, если б ты знала! Ну, ничего. Спасибо тебе за твою неумолимость… — Троицкий взглядывает на Толю. — Этого парня, который тебя в столовую тащил, как фамилия? Гладких?
— Да, товарищ строитель.
— Меня зовут Петр Константинович. Знаешь, почему Гладких на тебя осерчал?
Толя молчит.
— Он тебе друг, — говорит Троицкий. — Поэтому и рассердился, что ты ничего ему не сказал про карточку. Церемонии развел.
— Да не разводил я церемоний. — Толе разговор этот неприятен. — Костя с голоду сильнее мучается, чем я. Ему своего пайка не хватает, а тут еще…
— Тебе, конечно, виднее, Устимов. А все-таки он правильно на тебя обиделся. Я его понимаю.
— Хлеб весь не ешьте, — говорит Нина Михайловна. — Сейчас чай будем пить.
— С пирожным? — улыбается Троицкий.
— С пирожным. Это мы так называем хлеб с солью, — объясняет Нина Михайловна Толе, — вместо сахара.
— Мы тоже так пьем, — кивает Толя. — Я уж привык.
Троицкий, медленными глотками отпивая чай, продолжает разговор:
— Когда я вступал в комсомол, тоже было трудное время. Слыхал про мятеж в Кронштадте в двадцать первом году? Наших заводских комсомольцев мятежники бросили тогда в тюрьму. Между прочим, и меня, хоть я не был еще комсомольцем, а был сочувствующим. Помню, сидели мы в холодной камере, а по городу — колокольный звон, молебен шел во славу генерала Козловского. И вот принесли в камеру с допроса секретаря ячейки, Бритвина Семена. Он был избит, кровью харкал. Легкие у него отбили. Столпились мы вокруг Семена, молчим. И он молчит. Вдруг открыл глаза, прислушался к колоколам и говорит: «Не долго им трезвонить… Мне уж не жить, ребята, а вы держитесь дружно. Мы их сильнее… А построите коммуну, ребята, — вспомните и меня…» Ночью Семен умер у нас на руках.
Троицкий умолкает. Становится слышно, как потрескивает что-то в керосиновой лампе. Издалека доносятся глухие раскаты грома: на южном берегу работает артиллерия.
— После подавления мятежа я и вступил в комсомол, — неторопливо рассказывает Троицкий. — Я тогда сборщиком работал, вроде тебя. Задачка выпала нам нелегкая: возродить флот. Кронштадт тогда был — сплошное кладбище кораблей. За что ни возьмись, всюду нехватка материала, инструмента, да и кадровых рабочих немного осталось на заводе… Да, так вот. Комсомолия у нас была шумная, собрания — частые, бурные. А работали так, что семь потов сходило за смену. Субботники, ночные авралы… Помню, однажды беда случилась: зимой, тоже как раз в январе, вырвало ночью батапорт. А в доке стояла «Аврора», уж кингстоны мы вскрыли и сальники дейдвудов разбили, наутро валы, видишь ли, собирались снимать. И вот хлынула в док вода, затопила «Аврору». Часа в три ночи прибегает ко мне один наш комсомолец, говорит: так и так, надо срочно ребят вызывать. С меня, понятно, сон долой, бегу к другому, тащу его с постели. Тот — к третьему. Так по цепочке вызвали всех ребят в док. Положение — прямо хоть плачь: через дейдвуды и кингстоны хлещет вода. Был бы еще какой другой корабль, а то ведь — «Аврора»! Сделали мы набивку, и полез я с этой набивкой по коридору вала к дейдвуду. А вода — ледяная, так и обжигает. — Троицкий придвигается к печке, будто и сейчас, через много лет, не отогрелся еще после той ночи. — Сунул я набивку, да где там! Выталкивает ее вода. Пробую еще и еще — не держится набивка. А я уж совсем окоченел, ребята вытащили меня наверх, стали растирать. Так мы по очереди лазали в воду… Потом догадались: сшили, понимаешь ли, набивку с валом и вставили в дейдвуд. И кингстоны заделали: бревна затесывали и вставляли.
— Той ночью ты и нажил себе хронический ревматизм, — замечает Нина Михайловна.
— Уж не знаю, той ли ночью или другой. А «Аврору» мы спасли.
* * *Когда Толя пришел в общежитие, ребята еще не спали. За столом сидел Володька Федотов и при скудном свете чадящей коптилки писал письмо. Он писал письма ежедневно, писал с каким-то ожесточением, но Толя не помнил, чтобы хоть раз он получил ответное письмо.
Тут же четверо ребят забивали «козла», хлопали костяшками по столу так, что коптилка — снарядная гильза — вздрагивала. Володька матерился сквозь зубы при особенно сильных стуках.
Возле догорающей времянки сидел на табурете молчаливый Пресняков — насупясь, зашивал дырку на варежке.
Костя Гладких спал, повернувшись спиной к Толиной, соседней, койке. «А может, не спит, просто дышит?» — подумал Толя. И позвал негромко:
— Кость, а Кость?
Ему показалось, что сопение на Костиной койке прекратилось. Нет, не отозвался Костя. Жаль. Поговорить бы надо с ним…
Толя сел на свою койку, принялся стаскивать валенки. Вдруг, вспомнив что-то, снова обулся. Достал из тумбочки ребристую мыльницу, в которой болтался обмылок, перекинул через плечо полотенце и пошел умываться. Ребята проводили его удивленными взглядами.
А Володька Федотов сказал:
— Вот чудило!
3
Утро выдалось морозное. Ветра особого не было, только слабая поземка мела. Еще не рассвело. Луна будто окошко просверлила в тучах и заливала Кронштадт холодным светом. Глянцевито поблескивал снег на крышах и улицах.
На Морском заводе тут и там вспыхивали белые огни сварки. Гулко били по железу кувалды, и эхо, рождавшееся при каждом ударе, долго блуждало средь заводских корпусов.
Протаптывая тропинки в выпавшем за ночь снегу, расходились по объектам судосборщики, слесаря, котельщики, водопроводчики, электрики. Шли молча, медленно, неся на плече инструмент или волоча его на салазках; шли пожилые мастера — гвардия рабочего Кронштадта — и юнцы, лишь недавно, на пороге войны, расставшиеся с детством.
Толя перед началом работы успел сходить в бухгалтерию. Ровно в восемь пришла давешняя заведующая бюро. Выдав Толе новую карточку, сказала строго:
— Отправляйся прямо в столовую, Устимов, прикрепи карточку. И чтоб я тебя больше здесь не видела.
Карточку Толя сует в рукавицу и так доносит ее до заводской столовой. Теперь все в порядке. За столом, покрытым клеенкой, он не торопясь выпивает кружку чая — чуть подкрашенного слабой заваркой кипятку. Ломтик черного вязкого хлеба посыпает крупной солью. Раньше он половину ломтя оставлял — заворачивал в газетный обрывок и совал в карман: до обеденного перерыва далеко, хлеба пожуешь в один из перекуров — оно легче станет. Но сейчас Толя съедает весь кусок, ни одной крошке не дает упасть.
Душновато в столовой, пахнет паром, чем-то кислым. А лучшего места на всем свете для Толи нет. Сидел бы и сидел здесь, разморенный теплом.
Он идет в док. Идет вдоль Шлюпочного канала. Хорошо, когда нутро прогрето горячим чаем, — не так хватает мороз. А мороз сегодня — будь здоров! Вчера под сорок было, да и сейчас не меньше. Воздух колючий, покалывает ноздри при вдохе.