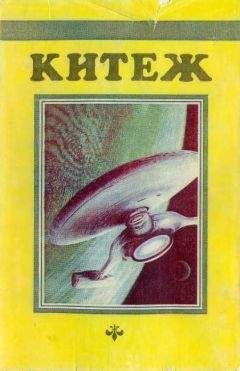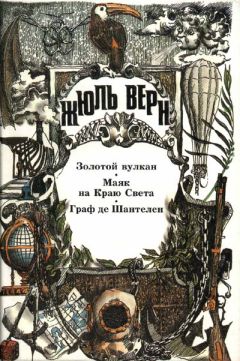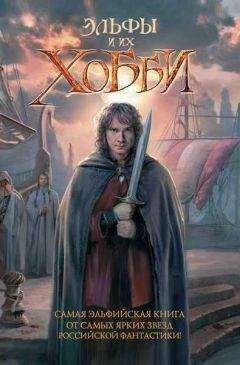Александр Черненко - Моряна
— Видал? — рыбачка, перекрестившись, осторожно приложилась к нему губами. — Велела я Васятке надеть эту пречистую, палестинскую... Как упрашивала захватить ладанку в море. А он — куда там! Насмехаться стал. Не взял, дурень, ладанку — вот и беда! А как говорила, как упрашивала! И старый мой тогда в останний раз выбег в море без нее, без пречистой. Вот и сгиб безо времени...
— Ладанкой не утихомиришь, маманя, море, — невесело заметил Костя.
Ильинична задумчиво посмотрела на ловца.
— Да-а, — огорченно протянула она, — оно такое, наше море...
Поддерживая под руку рыбачку, Костя все дожидался, что она снова заговорит о Катюше.
Но Ильинична молчала, продолжая с трудом передвигать разбитые ревматизмом ноги.
Костя наконец сам решил заговорить о своей землячке, однако начал издалека:
— А не видала ты случаем, маманя, в районе Андрей Палыча?
— Ой, как же! Совсем запамятовала... Видала, видала, сынок! Велел передать, что скоро воротится.
— А еще ничего не говорил?
— Нет, ничего, — Ильинична, еле переводя дух, остановилась. — Хватит, сынок. Я этим вот закоулком пройду. Спасибочко.
И только Костя решил спросить старую рыбачку о Катюше, как вдруг из соседнего двора ее громко позвал Цыган:
— Ильинишна!
Цыган подошел к камышовому забору и, слегка приподняв шапку, спросил:
— Узнала что про Ваську?
— Ох, нет...
— Так вот слушай. Я встретил под Маковом человека... — Цыган шагнул к калитке и предложил Ильиничне: — Да ты зайди к нам на минутку.
Впустив рыбачку во двор, он так же громко, словно в рупор, продолжал:
— Верно, слышала про четверых относных, что гурьевские тюленщики сняли? Так вот этот человек и говорит, — один, слышь, вашинский, из Островка. А кому, как не Ваське быть, я думаю...
Дальше Костя не слышал — Цыган с Ильиничной уже входили в сени.
Бушлак постоял у забора и, досадуя, что не успел подробнее расспросить рыбачку про Андрея Палыча, неторопливо зашагал дальше.
С той поры, как уехал Андрей Палыч в район, Костя не находил себе места; он спозаранок бродил по поселку и везде натыкался на предпутинную горячку. И стар и млад готовились к выходу на лов: чинили старые сети, метали новые, садили их на хребтины, дубили, конопатили и смолили посудины, латали паруса.
Повсюду висели сети: и во дворах, и в проулках, и на берегу, — казалось, весь Островок опутан тонкою паутиной.
Пахло прелью сетей и старой пряжи, жирно несло смолой.
Предпутинная спешка была в полном разгаре. А Костя все ожидал Андрея Палыча, — прошло уже много дней, как тот уехал в район.
Лешка-Матрос на уговоры Кости начать как-то самим подготовку, чтобы не пропустить начало путины, больше отмалчивался или мрачно, отрывисто отвечал:
— Подождем Андрей Палыча...
После гулянки с маячником он целые дни сидел один, запершись в своей мазанке, или же бродил где-то на задах Островка, возвращаясь домой только поздней ночью.
Свернув в проулок, Костя встретил шагавшего на берег угрюмого Лешку.
— Куда, Лексей?
Матрос остановился, о чем-то думая.
— Чего ж будем делать, а? — спросил его Костя.
Лешка сердито махнул рукой и снова зашагал на берег. Выйдя к протоку, он сумрачно посмотрел в сторону маяка, тяжко вздохнул... В самом деле, какая это глупая история с Максимом Егорычем! Лешка даже был там, на маяке, снова гулял со стариком, потом поскандалил с Дмитрием. Весь поселок говорил об этом.
«Нескладно получилось, — думал он, — и с гулянкой и с Митрием. Нехорошо, совсем нехорошо!..»
Он жестоко корил себя, раскаивался. На душе у него было очень тяжело. А тут еще Андрей Палыч не возвращался из района — уехал и как в воду канул!
— Эх-эх!.. — Лешка в отчаянии покачал головой и зашагал дальше, вдоль берега, заложив руки за спину, согнувшись.
«И что сталось с дядькой? — вновь и вновь думал Костя об Андрее Палыче, направляясь к Маланье Федоровне с письмом от Катюши. — Чего не едет? Дали ему кредит или только посулили? И с артелью ничего неизвестно. Чего торчит там?.. И лошадь прислал обратно. Тут путина, а он... Ведь море не ждет!»
Он приостановился и безотрадно посмотрел на берег. Там вразнобой шумели ловцы, перекликаясь с посудин, что стояли уже на приколе в проглеях; на посудинах вздергивали на проверку паруса, гремели шестами, баграми... В нескольких местах дымились топки под огромными черными котлами; в котлах дубили сети. Из топок валил коричневый дым и, поднимаясь вверх, стоял прямо, будто дюжие мачты морских судов.
А дальше — в лиловом от распаления льдов чаду — по протоку, едва сдерживаемому пухлым, ноздреватым льдом, продолжали проворно сновать на куласах речные ловцы...
Поровнявшись с домом Маланьи Федоровны, Костя постучал в кривое, с двумя только стеклышками оконце и, не дожидаясь ответа, направился к крыльцу.
В сенях никого не было. Костя осторожно стукнул в дверь горницы.
— Тетка Малаша!.. — Он приоткрыл дверь и еще громче позвал: — А, тетка Малаша!
Костя вошел в горницу.
В горнице была полутемь. Из трех окон два были наглухо заколочены, и в редкие щели их пробивались полоски света, словно кто-то натянул тонкие серые хребтины для посадки сетей. Третье окно у переднего угла имело шесть створок в раме, четыре из которых забиты дощечками, картоном и заткнуты тряпками, и только две створки — в мутных стеклышках. Через них вливался в горницу полусвет, выделяя бревенчатый угол, где, вместо икон, висели фотографии, ниже стоял маленький, с круглой покрышкой столик.
Костя разглядел в противоположном углу лежавшую на кровати старую рыбачку.
— Тетка Малаша!
Осторожно ступая по скрипучим половицам, будто по мелким льдинам, что уходили под ногами, ловец подошел к кровати. Тетка Малаша дремала; ее закрытые веки слегка приподнимались, глаза сверкали фосфорическим блеском.
— Тетя! — Костя тронул ее за плечо.
— Кто тут? Кто?..
Через минуту рыбачка стояла согнувшись и никак не могла поднять голову, чтобы рассмотреть ловца.
Годы скрючили тетку Малашу вдвое, словно надломили в пояснице: голова ее свисала почти до колен, а руки болтались у самого пола.
— Кто тут? — опять зашептала она, стараясь разогнуть спину.
— Да я — Костя...
Упираясь руками в бедра, тетка кряхтела и, выпрямляясь, надвигалась на ловца. У старой рыбачки — сизые, мутные глаза и большой, горбылем, нос; голова ее — белая, седая — тряслась. Долго и пристально смотрела тетка на Бушлака: она быстро, жадно дышала, как пойманная рыба.
— А взаправду, кажись, Костя, — зачмокала тетка маленьким беззубым ртом.
Все упираясь руками в бедра, она вразвалку, точно подшибленная гусыня, прошла к изголовью кровати, и когда начала шарить под подушкой, верхняя часть ее туловища беспомощно свисла.
Вытащив очки и нацепив их на нос, тетка, кряхтя, снова долго выпрямлялась, словно на спину ей взвалили тяжелую кладь. Потом она опять подошла вплотную к ловцу и, пристально оглядев его, удовлетворенно прошептала:
— Костя и есть... — и бережно погладила Бушлака по плечу. — Ну, пойдем в мой родной уголок. Там и посидим, поговорим.
Грузно переваливаясь с боку на бок, тетка зашаркала в передний угол. Вслед за ней Костя прошел к маленькому круглому столику и опустился на табурет.
— Чего скажешь, родненький? — она уселась против ловца.
Уже много лет говорила рыбачка шепотом, сухим и звучным.
— Письмо тебе из города, от Катерины Егоровны.
— Неужели правда? — обрадованно воскликнула тетка.
— Ага! — и ловец протянул старой рыбачке конверт.
Она поспешно замахала руками:
— Читай давай! Читай!
Костя разорвал с краю конверт, вынул из него пачку бумажек и бережно развернул их; несколько страничек было сложено вчетверо, с жирной надписью: «Для К. И. Бушлака».
«Ага! — радостно подумал Костя. — Это мне».
— А это — пять червонцев, — сказал он. — Держи, тетя, подарок от дочки!
Рыбачка снова заторопила ловца, сердито бросая хрустящие бумажки на столик:
— Читай, тебе говорю! — и, отложив за ухо платок, приготовилась слушать.
«Дорогая моя мамашенька Маланья Федоровна!
Была у меня в гостях Ильинична. Рассказала она мне, что ты совсем постарела, часто прихварываешь, и разболелось у меня сердце, и потянуло в родной Островок.
Собираюсь я, дорогая моя, скоро приехать к тебе. Да и случай подходящий, кажется, подвертывается, а то ведь все завод и завод...
Не была я в Островке уже четыре года и тебя ее видала давно — с двадцать восьмого не приезжаешь ты ко мне! Да и по могилкам батяши да Васи соскучилась.
Купила я еще стекла для рамок под портреты, но с Ильиничной не передала, побоялась, как бы она не разбила их».