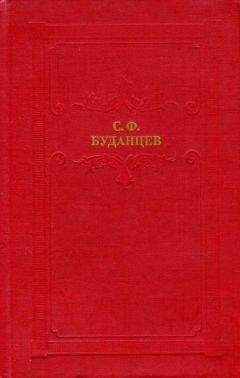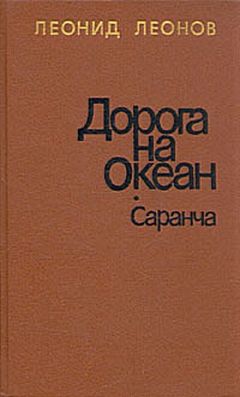Сергей Буданцев - Саранча
Дом, семейный дом, это ведь не только квартира, в которой обитают муж и жена. Дом — это муж, жена и дети, …довольство. А тут нищета и мрак безысходный. Я верю, будь жива Мариночка, мы не разошлись бы».
«Я — НЕ ДОЛЛИ ОБЛОНСКАЯ, ИЗМЕНЫ НЕ ПРОЩУ ДАЖЕ РАДИ ДЕТЕЙ»,
— так начала она ответ и не дописала. Он прислал встревоженную телеграмму, она отозвалась:
«ЗДОРОВА, ДЕНЬГАМИ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЗАИМООБРАЗНО. БЛАГОДАРЮ».
Денег все время не хватало, она питалась баранками и мацони. Больше всего поглощали передачи Онуфрию Ипатычу. От него получались нелегально письма, которые она стыдилась читать, так эти мятые серые клочки были исполнены любви, благодарности, грамматических ошибок, словно их писал ребенок, в котором подобные слова и чувства неестественны:
«Я получил опять икру и конфекты, за что мне такие благодеяния. Если я заслужил их своей неудачной любовью, а если это только жалость… Милая, ненаглядная, я перед страшными часами нахожусь в жизни, вы мне и заступница и отрада. Как мне благословлять вас, я томлюсь в беззвучной камере. Брат и мать фактически отказались от меня, как и надо было ожидать, до последнего издыхания молюсь на вас. И пусть, пусть мне не было дано даже ни одного поцелуя, — кровь моя — ваша, как душа и сердце».
Как-то он написал ей:
«Я устал, хоть бы скорее конец. Одиноко мне, нечего делать, и шуму кругом нет, чтобы заглушить мои думки. Отвечаю на все вопросы следователя, и он стал часто вызывать меня. И я отдыхаю, когда меня ведут по улицам, все же видишь вольных, а может быть, кажется, и вас встретишь».
И она этой слабости и устали поверила больше, чем любовной тоске, и он стал ей ближе. Сухой восторг гнал ее в темные передние учреждений, в прокуренные комендатуры с запахом пропотевших сапог и истерическими выкриками. Позже, перед судом, член коллегии защитников Братцев, рябой и моложавый человек, с такими движениями, словно он собирался сейчас взлететь, спросил, кем она доводится его подзащитному. «Никем, он любит меня». Братцев побагровел, стал заикаться, и плачущий голосок его (ей вспомнилось, что в суде адвоката звали «Москву слезой не купишь») зазвучал обиженно… Стоило больших трудов уговорить его взяться за дело Веремиенко: адвокаты еще не знали, как вести себя в хозяйственных процессах, потрухивали, — и Таня начала придумывать правдоподобный рассказ об отношениях с Онуфрием Ипатычем. Признание в близости все рассеяло бы, но показалось немыслимым произнести эту ложь. В уголовном розыске ее для упрощения считали за сумасшедшую родственницу, только морщились на ее раздраженные крики о беспорядке.
Она преобразилась.
Я с вязала свою участь с преступником, что с меня возьмешь, — заявила она однажды.
Сказано это было при особых обстоятельствах. В одно ветреное утро, обещавшее бешеный зной к полудню, Таня заняла место в длинной очереди с передачами. Человек на пять впереди суетилась коротконогая круглая женщина с двумя большими узлами, все совала один белоголовому мальчику и, когда тот хныкал, уставая, отбирала обратно.
— Сташек! — позвала Таня.
Мария Ивановна повернула на восклицание мокрое лицо шафранного оттенка, не удивилась, поклонилась сухо. Однако Таня подошла к ней.
— Мой-то пан тоже попал. Оговорили ваши-то! — злобно прокричала Мария Ивановна, чтобы другие слышали, — будто он им помогал через границу переправляться, мой-то, мухолов…
— Почему же у вас две передачи?
Толстуха спрятала глаза, отмахнулась.
— Да муж, когда брали, велел и о дружке позаботиться, об Онуфрии. Нет ведь у того никого. Брат-то, знаете…
— Про меня вы позабыли?..
— Словно позабыла.
Возвращались вместе. Мария Ивановна смякла, рассказывала, как убивается Михаил Михайлович, рвется сюда, да завод не пускает, приходится ожидать начала дела или вызова к следователю. Вот тогда-то, на прямой вопрос, Таня и заявила о своей участи.
— Мудрите вы очень, — проворчала Мария Ивановна опять неприветливо. — Либо сердце у вас холодное, либо дурная голова ему покою не дает. Прощайся, Сташек, с тетей.
И Таня не обиделась!
II— Дело назначается слушанием в начале сентября. Следователь гонит, в Москве заинтересовались, — сообщил Андрей Ильич, зайдя к ней в комнату от сестер. — Очень способный молодой человек, но жесткий, из новых.
Каким-то своим шумом отозвались ее уши на эти слова. Руки утомленно опустились. В глазах позеленело. Зеленый медный привкус отравил слюну. Твёрдый язык едва повернулся пролепетать: «Ничего, это так… я всегда волнуюсь». Она и в самом деле подумала, что взволновалась об участи подсудимых. Всю ночь ей снились страшные сны, а один разбудил и уже не дал задремать, хотя она намоталась за день, едва, добралась до постели. Кто-то усатый, — она знала, впрочем, что это прежний муж Михаил, — крепко целовал в грудь, в соски, отчего стало неприятно и горячо. Побежала умываться, вода тоже показалась теплой, не смывала ни жара, ни щекотки. Таня проснулась, — вот сейчас умрет, — с криком на губах. В окно сыпалось бледное известковое небо рассвета, пыльное уже и в этот ранний час. Принялась соображать, какое число, выходило 21 августа, подсчитывала другие сроки и то обливалась потом, то леденела. Правда, за время болезни правильное течение ее женской жизни нарушалось не раз, но тут выпал что-то уж очень длинный перерыв…
Около полудня ей пришлось проходить по бульвару, у самого берега моря. Рейд жестяно поблескивал, зной, казалось, плавил яркие краски на бортах пароходов, из труб которых изредка выбивался жидкий пар. Таня вспомнила приезд из Персии: Миша, смотря в темноту на город с пароходного носа, сказал что-то вроде следующего: «В России уж мы помучимся, да не соскучимся. А Маринке жить будет, должно быть, вовсе хорошо. Там все в будущем. Я не лезу в большие забияки, однако за себя постою». Таня горько усмехнулась.
Легкая муть смягчила, сгладила короткие густые тени, которые зияли на горячей земле, как ямы. Словно бы редкое облако налетело на солнце. На миг стало душнее, суше, — если могло быть суше, — поднялась, завертелась песчаная пыль. Послышалось легкое завывание, как будто где-то вдалеке тронули мощную струну. С северных краев амфитеатра, в котором сидел город, рушился серый ветер. «Норд», — подумала Таня. Солнце в ответ сделалось коричневым, словно запеклось и потемнело. Песок и камни кололи щеки, руки, больно секли по ногам. День мерк с каждой секундой. Дома, трубы, мачты, деревья слились с непроглядной мглой. Как будто из подполья, завыло море. К нему рвался грохот города. Гремели железные листы, хлопали ставни, жалобно плескался флаг. Пустой бидон пронесся мимо носа Тани, за ним другой. Ураган рвал, ломал, гремел. Ослепшая, оглохшая Таня пробивалась, вытянув руки к воротам, — там обычно стояли фаэтоны. Пыль скрипела на зубах, забила дыхание, от нее разило аптекой.
Коляску метало, как скорлупку, извозчик, крашенный хной перс, прыгал, изгибался на сиденье, удерживая равновесие, лошади едва тянули экипаж по площади, пробираясь к улицам. В улицах было тише, ураган неистовствовал где-то поверху. Насилу добрались..
В комнате мглисто хозяйничала пыль. Песок набился сугробиками на подоконниках и в углах, у невидимых, щелей, как копоть, покрыл стол, подушки.
Таня прошла в спальню к сестрам. Там все было наглухо занавешено, горело электричество, пахло пудрой и сном, — Таня вдруг пожалела, что ее не унесло бурей, которая свежо и грозно громыхала крышами. У сестер в гостях торчала старая армянка, бывшая горничная, жившая теперь в убежище. Пепельное лицо ее ссохлось в сетку морщин, кожа словно собиралась расшелушиться на отдельные пластинки, черные глаза моргали просительно и недобро. Она чем-то напоминала Тане мать Онуфрия Ипатыча. Все давно выболтались, зевали, и Таня рассказала, какой странный сон ей приснился.
— Это к большой неприятности, — заметила с удовольствием Инна Ильинична, — к потере или смерти близкого человека…
Симочка прикрикнула на нее:
— Рады сказать гадость! — и истолковала сновидение как предчувствие перемены погоды.
— У нас по-старому сны объясняют, — вмешалась старуха, трудно подбирая выражения, но мысль ее и за этой беспомощностью казалась кичливой. — Много тысяч лет у нас объясняют сны, слыхала? Персы нас учили, а может, еще раньше. Ребеночка ты хочешь, — коротко вымолвила она, — груди жжет к ребенку, в воде купать — к ребенку. Вот что такой сон означает.
Таня, злясь на себя, покраснела, сестры замычали согласно и в тон что-то невразумительное и осуждающее, с постным видом. Одна Симочка захлопала радостно в ладоши, захохотала, на нее зашикала Римма Ильинична и язвительно пропела:
— Ты, матушка, молода, и твое дело молчать в тряпочку. Без мужа родить ах как невесело, далеко не удовольствие, да при такой-то власти…