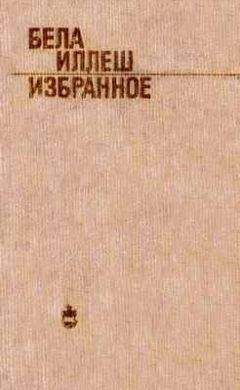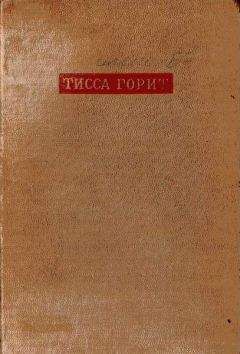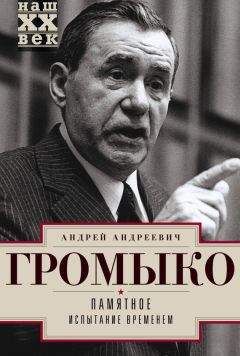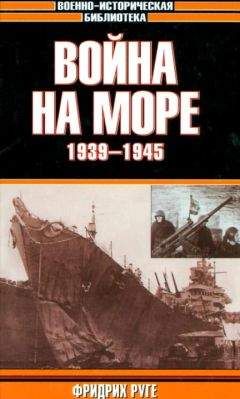Бела Иллеш - Избранное
Когда стемнело, мы опять сидели вдвоем под старым тутовым деревом.
Илона не говорила, молчал и я.
Илона начала первая.
— Ты не боялся, когда был на середине Тисы один? — спросила она.
— Я был не один, — ответил я дрожащим голосом, — я думал о тебе.
Илона не ответила. Я смущенно взял ее маленькую горячую ручку и коснулся губами василькового венка на ее волосах. Она поцеловала мои глаза.
— Ты вернешься? — спросила она.
— Вернусь!
— Обещаешь?
— Обещаю.
Если бы тогда какая-нибудь золотоволосая русалка предсказала нам на ухо будущее, мы оба подумали бы, что это говорит мерзкий старый Бочко. Ведь кто же другой, как не он, мог выдумать, что, когда через десять с лишним лет я вернусь в Намень, Илона Варади натравит на меня собак. И на мне будет тогда запыленная, порванная шинель, на ногах — грубые, дырявые башмаки, а на голове — пропитанные кровью бинты; я где-то оставлю винтовку и потащу к Тисе истекающего кровью раненого Яноша Фоти. И когда я обращусь к ней: «Дай мне стакан воды!» — она, дочь старосты Варади, покажет туда, где в мутной речной воде плавают разбухшие трупы красноармейцев, и скажет: «В Тисе воды достаточно».
… В том далеком будущем румынские артиллеристы обстреливали Намень, которую командир дивизии Микола Петрушевич защищал с помощью только нескольких десятков красногвардейцев-русин…
На обед мы ели уху с красным перцем, уху, сваренную в воде из Тисы. Ужин тоже состоял из ухи.
— Уху с красным перцем по-настоящему умеют варить только в двух местах, — сказал староста Варади, — в Сегеде и в Намени.
Уху надо ополоснуть вином, так как, по убеждению венгров, рыба, попавшая в желудок, хочет опять плавать, но на этот раз в вине.
— Пусть плавает! — говорил староста Варади, снова и снова наполняя стаканы.
Старый, сутулый тисайский рыбак слабым, дребезжащим голосом рассказывал старые, старые были. Самым молодым из его героев был живший двести с чем-то лет тому назад Тамаш Эсе. А самым старым — некий витязь Кючю, который во времена короля Петера [21] один утопил в Тисе сто немцев в железных панцирях и сто итальянских священников, одетых с ног до головы в черное.
До поздней ночи слушали мы рассказы о чудесных подвигах венгерских предков.
Потом легли спать в доме старосты Варади.
Встали поздно, пришлось остаться обедать.
После обеда наконец отправились домой.
За первую половину дороги отец не проронил ни слова. Когда он наконец заговорил, то обратился не ко мне, а скорее выразил свои мысли вслух:
— Подумать только, что несколько лет назад наменьцы пырнули ножом агента по продаже хлеба, осмелившегося сказать, что в правительственной партии тоже могут быть честные венгры. А теперь… теперь и слепой видит: если Ураи не достанет им разрешения на разведение табака, то на следующих выборах вся Намень будет голосовать за правительство.
— Партия независимцев не нуждается в голосах тех, кто за деньги готов продать свои убеждения, — сказал я.
— Берегсас уже продался черту, — ответил отец. — Если теперь и Намень отпадет, то заколеблются и деревни Вари, Папи, и тогда…
Он закончил фразу глубоким вздохом.
— На месте Ураи я даже не принимал бы голосов наменьцев!
— Ты еще мальчик, Геза. Не понимаешь дел мирских.
— Да, — сказал я, — действительно не понимаю, чем наменьцы лучше тех, которые просто за деньги отдают свои голоса за кандидата правительства?
— Лучше, — ответил отец не совсем уверенно.
— И чем такие венгры, — спросил я теперь воинственно, — лучше тех русин, которые голосуют за своего русинского кандидата, даже когда наверняка знают, что за это их посадят в тюрьму? Не лучше, — ответил я себе, — а хуже.
— Лучше, сынок, куда лучше!
— Чем же они лучше?
— Лучше, — повторял отец. — Поверь мне, сынок, лучше. Даю тебе честное слово, — а ты знаешь, я зря своим честным словом не бросаюсь, — даю тебе честное слово, что венгры — самый лучший народ на земном шаре!
В Берегсасе перед нашим домом нас встретила няня Маруся.
— Плохи дела, хозяин!
— В чем дело, Маруся?
— У нас судебный исполнитель. Описывает.
Отец побледнел.
Судебный исполнитель Бакач пришел к нам впервые.
Но, увы, не в последний раз!
Когда исполнитель Бакач и оценщик Хедервари покончили с официальной стороной дела, опечатав давно уже отдыхающий рояль матери, отцовское кресло из свиной кожи и книжный шкаф, в котором вместо книг стояли граненые бокалы, отец предложил им выпить по стаканчику вина. На месте дерева Кошута теперь стояла беседка, увитая диким виноградом. Там отец угощал незваных посетителей, вдруг превратившихся в милых гостей. После того как было уже выпито несколько бутылок вина, выяснилось, что Хедервари хорошо поет.
Звуки пения привлекли в беседку и меня.
Тисы светлая струя!
Где ты, милая моя?
Ты скажи красе моей —
Чей парнишка всех ладней.
Отец кулаком отбивал такт. Винные стаканы танцевали на столе.
Когда пришел Маркович, на столе появились новые бутылки, и отец дал распоряжение няне Марусе достать где-нибудь две пары цыплят и зажарить их с красным перцем. Предвиделся приятный вечер. Но Хедервари все испортил.
Когда отец открывал новые бутылки, оценщик, попавший в Берегсас из Западной Венгрии, следующими словами обнаружил свою темную душу:
— Берегсасское вино тоже неплохой напиток, но все же нет на свете такого вина, которое могло бы сравниться со стаканом настоящего пилзенского пива!
Маркович, вообще хорошо владевший собой, встал и, не прощаясь, ушел.
Отец извинился перед гостями, сказав, что так как ночью плохо спал и очень устал от долгой езды, то чувствует себя плохо и ему придется лечь спать.
Судебному исполнителю Бакачу и оценщику Хедервари не пришлось есть у нас жареного цыпленка в красном перце.
Тамаш Эсе
Тарпинский староста Тамаш Эсе был человеком злопамятным.
Берегский вицеишпан Иштван Гулачи был мстительным человеком.
Эсе был зол на берегских господ. В доме сельской управы и в корчме он не раз откровенно высказывал то, что о них думал.
Гулачи однажды сказал о тарпинском старосте:
— Этому нахальному мужику я когда-нибудь сломаю шею!
Земных благ у Тамаша Эсе, кроме его исторической фамилии, было весьма мало.
Берегский вицеишпан Гулачи унаследовал от своего отца четыре тысячи двести хольдов превосходной земли. Эти четыре тысячи двести хольдов приобрел один из членов семьи Гулачи в 1849 году, когда он в качестве императорского комиссара ловил бегущих солдат разбитой революционной армии Кошута. Власть вицеишпана… четыре тысячи двести хольдов… Гулачи был идеалом берегской венгерской знати.
Когда Эсе узнал, что Ураи достал для наменьцев разрешение на разведение табака, он заявил в тарпинской корчме:
— В моих руках не будет больше знамени с фамилией Имре Ураи!
— А какое у тебя теперь знамя, Тамаш? — спросил его деревенский богач Элек Паткош.
— Венгерское знамя! — ответил Эсе.
— Это ясно, — сказал Паткош. — Вопрос только в том, что на нем написано?
Эсе медлил с ответом. После длительного раздумья и двух стаканов вина он вновь заговорил:
— На моем знамени написано вот что: вперед, нищий, голодный нищий, вшивый нищий…
— Что ты, что ты! Хочешь стать старостой нищих? — спросил испуганно и в то же время злорадно Паткош.
На это Эсе ничего не ответил.
Тарпинский жандармский офицер доложил вицеишпану о странном заявлении Эсе. Прочтя докладную записку, Гулачи громко засмеялся.
— Теперь самое время! — сказал он.
Случай был как раз подходящий. В Тарпе предстояли выборы старосты.
Руководители комитата никогда не любили куруца Эсе, а теперь тарпинский староста объявил войну и партии Ураи. На кого же этот дурак рассчитывает?
— Нищему нужен крейцер, ни один верующий не откажется дать нищему крейцер или кусок хлеба, — сказал тарпинский кальвинистский священник. — Но только дурак дает в руки нищего палку старосты.
— Эсе не нищий! — защищали тарпинцы своего старосту.
— По воле божьей — нет, — сказал священник, — но по своей собственной воле он поставил себя в один ряд с нищими.
Тарпинцы задумались.
«Вперед, нищий, голодный нищий!» — это звучит очень красиво, когда речь идет о Тамаше Эсе Великом, подбадривавшем этими словами своих босых солдат. Но в устах тарпинского старосты Тамаша Эсе слова эти звучали не особенно красиво. Тарпинские крестьяне не были нищими.
Впервые за двадцать четыре года на выборах был выставлен, кроме Эсе, другой кандидат — Элек Паткош.