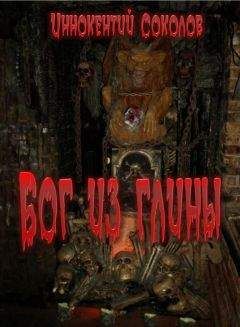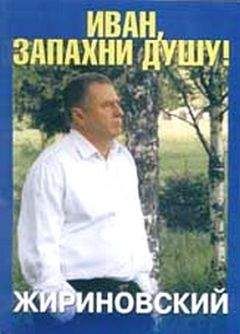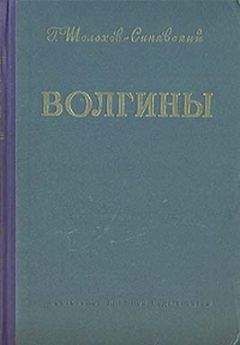Георгий Шолохов-Синявский - Суровая путина
Петя Королек услужливо торопился, готовясь к гульбе. На столе уже выстраивались винные бутылки, бодро гудел медный сияющий, как солнце, самовар. Один из многочисленных корольковских сыновей, промышлявших в городе извозом, красивый, розовощекий малый, старался во всем угодить гостям.
— Лошадей, когда простынут, напой обязательно, — приказал ему отец и озорно пошевелил усами. — Да к Мартовицкому сбегаешь, скажешь: приплыла, мол, рыбка.
Через час гостеприимный домик захлестнула бесшабашная крутийская гульба. Махорочный дым серым облаком висел под потолком. Фальшивя, пронзительно взвизгивала в могучих руках краснощекого парня гармонь.
Аниська сидел рядом с Малаховым, устало щурясь. С похудевшего лица катился грязный пот. На смуглой шее судорожно билась упругая жилка.
Пьяно икая, Аниська бил кулаком по столу.
— П… Петро Сидорович… П… продадим с Яковом Ивановичем рыбу — будем гулять неделю. Хочешь?
— А чего нам, Анисим Егорыч, гуляй себе и гуляй. На свои пьем, не на чужие, — подмигнул Королек, чокаясь с Аниськой полным стаканом.
— М-мне все равно… все равно, — продолжал бессвязно твердить Аниська. — Вася… друг…
Васька, польщенный вниманием друга, протягивал к нему красную, в кровоточащих ссадинах ладонь.
— Держи руку, Анися.
— До тюрьмы, до скорого свиданья, Вася. Тюряги нам с тобой не миновать. Ха-ха-ха…
— Тссс, — прикладывал Малахов палец к губам.
— Чего… ну… ч-чего? — блуждая глазами, раскачивался всем телом Аниська.
И вдруг, упав головой на залитый водкой стол, скрипя зубами, простонал:
— Липа-а! Где же ты скрылась, звездонька! Батя… Батя-я-а-а!.. Выпил бы и ты сейчас со мной на панихиде по вахмистру…
Время таяло незаметно в пьяном угаре. Продав Мартовицкому рыбу, Илья и невозмутимо спокойный Малахов принесли выручку, купили еще водки, решив гулять до следующего утра.
К полуночи огонек лампы чуть мерцал сквозь пелену табачного дыма и пыли. Не продохнуть стало от тяжких запахов водки, распотевших тел. Гармонь хрипела и захлебывалась. Оттопырив губы, молодой Корольков вслепую нащупывал лады, наяривал «казачка».
Подбоченясь, отбивали чечотку братья Кобцы. Потом нескладно пели родные украинские песни, под конец затянув буйную крутийскую.
И снова, как в памятный день, когда сидел Аниська у Семенцова и ждал случая попросить у него денег на справу, томился он знакомой, больно щиплющей за сердце тоской.
Только теперь сидел он за столом, как заводчик, как хозяин ватаги. Теперь были у него и дуб и волокуша, были деньги, но не было удовлетворения и радости. Наоборот, он ощущал только душевную пустоту.
Пошатываясь, вышел Аниська во двор, опустился на ступеньки крыльца.
Над городом нависало обагренное огнями недалекого завода пасмурное небо. Аниська смотрел на зарево заводских огней и не мог представить себе, что делали в нем люди: жизнь на заводе казалась ему таинственной и непонятной. Сознание его вдруг прояснилось, и он поймал себя на мысли о том, как мало видел он, как мало знает. Ясным и понятным было только — рыба, гирла, тупая ненависть к некоторым людям, мешающим ему жить. Дальше — темень непроглядная. Закрыты пути, и неизвестно, как пробраться к ним, кто откроет их… Вот песня, ветер, веющий с моря и пахнущий снегом, — это понятно.
Аниська с любопытством смотрел на огни завода. Высокий тенор Пантелея звенел за окном отчаянно. Казалось, он вот-вот оборвется — так трудна и бесконечна была нота.
В первый раз Аниське стало тяжело слушать пение: он отошел к сараю, где стояли лошади. Но и в сарае настигала его песня:
Мы исправим себе дуба,
Парус в семьдесят аршин,
Бродачок[32] с кляча в кляч новый
На сто двадцать пять правил,—
пел, надрываясь, Пантелей Кобец. Аниська подошел к воротам.
За ним незримо тянулась песня, как бы повествуя о напрасном молодчествс.
Ты, заводчик, будь героем,
Осмотри свой дименек[33],
Поверни слева направо,
Чтоб не лопнул румпелек,
Мы заедем до Дворянки,—
Там сазан, сула кипит…
А в нас, братцы, сердце ноет
Сердце ноет, грудь болит,
Дуба рыбы мы наловим,
В Таганрог её свезем,
Там всю рыбу мы загоним,
Дуба нового польем.
Облокотившись на влажные планки забора, Аниська терпеливо дослушал песню. Ветер трепал его чуб, холодил лоб. Хмель медленно покидал его. Аниське вспомнились смерть отца, горе матери и глаза остро защекотала слеза… Потом проплыли в памяти дни раздумья, нерастраченная, мгновенно вспыхнувшая любовь к Липе, обидный отказ Мирона Васильевича, расправа с вахмистром.
«Вот убил вахмистра, а жизнь какой была, такой и осталась», — равнодушно подумал он и отошел в глубь двора.
Его остановил странный глухой звук. Он обернулся и, сам не зная почему, попятился в тень. То, что он увидел, поразило его, как внезапный блеск молнии. В калитку один за другим, давая друг другу знаки двигаться тише, просунулись пристав и двое полицейских.
С минуту стоял Аниська, оберегаемый тенью. Вместо того, чтобы бежать в дом и предупредить товарищей, он бросился к саням, стал глубже засовывать под смерзшиеся сети оружие.
Полицейские взошли на крыльцо, бесшумно нырнули в дом. Схватив коньки; Аниська выбежал за ворота. Неосвещенная окраинная улица поглотила его. Без шапки, в одной рубахе, спотыкаясь, торопливо шагал он, не сознавая куда.
Несколько раз он перелезал через какие-то заборы, отдыхал, сидя на снегу. Наконец выбрался на широкую, залитую газовым светом улицу. Улица вела в город. Аниська понял, что здесь его могут увидеть, и свернул в переулок.
…Сойдя к морю, он подвязал коньки, ехал долго, не зная времени, не чуя усталости. Хмель окончательно прошел. Изредка Аниська останавливался, жадно глотал снег. Теперь он обдумывал все пути, которые могли бы увести его от ареста, и не находил их. Город пугал его; города Аниська не знал. Оставались хутора, немногие друзья-крутии — мир знакомый и родной с детства. Но мир этот становился все теснее, и Аниська испытывал такое чувство, будто его втиснули в медленно сжимающиеся огромные тиски…
Отдыхая на льду, он начинал мерзнуть; особенно холодно было голове. Он вскакивал и снова бежал вперед, держась берега. Изредка навстречу попадались рыбачьи обозы. Он объезжал их, слушая замирающие в тумане мирные голоса людей.
Так доехал Аниська до хутора Мержановского. Здесь он вспомнил о Федоре Прийме. О добром украинце, выручившем отца на торгах, Аниська помнил всегда, не раз встречался с ним в море и теперь решил обратиться к нему за советом.
Морозный туман окутывал разбросанный по взгорью рыбачий хутор. Окончательно изнемогая, Аниська выбрался на крутой каменистый обрыв. В крайних хатенках уже светились огни.
Дыша теплым запахом махорки, спускались к морю молчаливо-медлительные рыбаки.
Аниська спросил у одного из них, где живет Федор Прийма. Ему указали на веселый, зажиточного вида, домик, стоявший на самом краю обрыва. Дрожа от озноба, Аниська постучал в окно.
Впустил ело сам хозяин, осмотрел добродушно и недоуменно.
— Ты кажи, хлопец, сущую правду, — говорил, он, усаживая Аниську возле жарко натопленной печки, — откуда ты такой легкий?
— Пихра захватила в море. На подледный выехали мы с Малаховым и напоролись, — хрипел Аниська, еле разжимая черные губы.
— Все забрали? — участливо спрашивал Прийма. — А остальные где?
— Забрали все, а крутни на Таганрог ударились, — сам удивляясь своей ненужной лжи, отвечал Аниська.
Прийма задумчиво поглаживал пышные усы, огорченно качал головой.
Выпив смешанной с перцем водки, Аниська завалился на печку и проспал до сумерок.
Арестовали его на другой день. Полицейский Чернов, шедший вместе с облавой по хуторам, связал Аниське руки, подталкивая в спину ножнами шашки, вел через весь хутор, а потом, усадив в сани, всю дорогу держал в левой руке конец смоленой веревки, а в правой — обнаженную саблю.
Атаман Хрисанф Савельевич Баранов лично проводил арестованных крутьков — Аниську, Панфила, Илью, Кобцов, Малахова — до станицы Елизаветовской, а оттуда — в новочеркасскую тюрьму.
Часть вторая
Три года прошло с тех пор, когда ватага Аниськи Карнаухова в последний раз отгуляла в заповеднике Нижнедонья. Три раза весеннее половодье ломало в гирлах лед и уносило в море вместе с льдинами рыбачьи снасти. Не раз гудели низовые штормы, опрокидывая острогрудые дубы и баркасы, а вместе с ними тонули в Азовском море и рыбаки.
Не одна осиротела семья. Вместе с илом и прелым камышом не один утопленник прибивался к плакучим вербам, что стоят у Мертвого Донца, опустив ветки свои в зеленую тинистую воду.