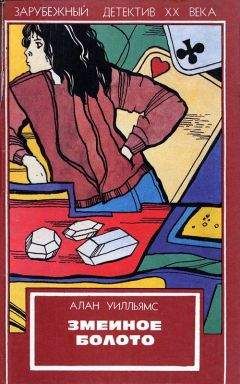Виктор Козько - Судный день
Он представил себе тетку, красную лицом, но не от сытости, а просто по природе, как она следит за ним, Андреем, когда он тянется к выложенным на стол ложкам, спотыкаясь рукой, выбирает ложку; спотыкаясь взглядом, несет ее к тарелке — скребет тарелку; потом торопливо, спотыкаясь сердцем на каждой капле, падающей с ложки на стол, несет ко рту. Нет, он еще не настолько голоден, чтобы вернуться к этому.
Из-за чего он бежал? Зачем? Не потому, что ему было голодно. Не для того, чтобы нажраться. Он и представить себе не мог, что где-то люди едят вволю. Еда не занимала его. Все вокруг, весь город, выходит, и весь мир были сыты одинаково. В его доме, конечно, картошка была больше с та́ком, но перепадала и с маком. А вот полярники (так прозвали тех, кто жил в землянках на северной окраине их городка) кормились святым духом. И ничего. Не бегали. Пухли с голоду, покрывались коростой, но не бегали. А он убежал.
Так почему? Натура у него такая шалавая? Шалавая! Это он знает. Но не в натуре дело. Из-за своей натуры он не сбегал, а сходил из дому, как сходят дичающий пес или кот. Шел в деревню к бабушке. Шел каждый раз с твердым намерением поселиться у бабушки навсегда. Но не выходило навсегда.
— Внучек, — говорила обычно бабушка, — да не прокормлю я тебя в деревне. Не здолею уже.
— Почему же не здолеешь? Почему ты меня не прокормишь? — все никак не мог понять Андрей. — Я шел к тебе, по дороге столько хлебов растет: и жито, и яровина, и просо, и картошка.
— Растет... Да мы тут в деревне хлеб раз в году видим, когда убираем. — И бабушка поджимала бесцветные губы, как делает это бабка Наста, когда прячет свои ключи: все бабушки походят друг на друга.
— В городе говорят: хлеб ест деревня, а ты говоришь — нету хлеба, — стоял на своем Андрей.
— В городе хоть гроши есть. А у меня всей пензии за сына пятьдесят рубликов...
Тут бабка плакала, а он утешал ее, говорил, что, может стать, сын ее и не сгорел в танке, а жив, обгорел только. И из-за обгорелости своей не хочет, боится показаться на глаза бабке. Ведь о таком случае писали даже в книге. Вот Андрей вырастет и найдет ее сына. А не найдет сына, так и без него тогда проживут. У него, у Андрея, будут деньги и хлеб будет... Кончались бабкины слезы. Бабка и внук то ли шли на колхозное поле собирать мерзлую картошку, то ли на луг за щавелем или опять же на поле, но уже за колосками. А однажды так и своровали полторбочки пшеницы. Бабушка привела его к амбару на сваях, дала торбочку и сказала:
— Лезь под амбар. Я в сусеке, куда пшеницу ссыпали по осени, дирочку разглядела, авось и натекло мне на зуб...
Натекло. Но не хватило этого хлеба для продолжения бабкиной жизни. Некуда сходить больше Андрею из дома от своей горькой жизни. И ушел от него сон.
И долгими ночами дошло до него, что он лишний, чужой в дядькином доме. Ночами он слушал, как дядька спорит с теткой.
— Дурень ты, дурень, — выговаривала тетка дядьке, — что ты только вбил себе в голову. Да ему же в детдоме будет лучше, чем у нас.
— Так-то оно так, — отвечал дядька, — да не могу я это дитё сдать в детдом.
— А хлеба ему вволю ты можешь дать?
— Что своим, то и ему. Голову ему могу погладить, приласкать, а кто его в детдоме приласкает?.. Не будь моей вины перед его батьками, не доведись мне минировать ту проклятую дорогу, может, и отвел бы в детдом, а так не могу...
— В чем же твоя вина — что в партизаны, а не в полицаи пошел? Война все, война.
— Так-то оно все так... Але ж... снится ночами брат, ничего не говорит, только пальцем вроде грозит.
— А может, он тебе указывает, чтоб ты отвел его сына в детдом?
— Опять же — мы в его хате живем...
— Жилы уже все вытянула эта хата из меня. Сколько можно глаза ею колоть, гори она огнем... Одеть его не напасешься.
— Люди пальцем тыкать будут...
— И так тыкают. Приглядываются, во что одет, какой кусок ему я подаю, не оставляю ли лучший своим детям. И дрожишь за него, чтоб, дали бог, ничего с ним не случилось. А он еще шалавый уродился. Не заступил же мне никто дорогу, когда я за ним в лагерь пошла. Несчастье, несчастье, а не дитя это в доме. Как распятая перед ним живу. И нет вины, а виновачусь. И ты тоже. Не нужен ни мне, ни тебе такой напоминок перед глазами.
— Так-то оно так...
— Вот, дошло. А люди поговорят и успокоятся. А так всю жизнь мука смертная.
— Мука смертная... Буду мучиться. Одна мука — что он рядом, что не будет его. Все равно муку свою никому не сбудешь.
— А если бы не было его, если б не было ничего?
— Если б да кабы...
Что может быть горше, горючее, когда понимаешь: тебя держат только из милости, тебя не кормят, а оказывают тебе милость, подают милостыню... Постель — милостыня, одежда, и солнце, и воздух... Все чужое, и ты всем чужой.
А дядька вскорости слег — сухотка. И было совсем неясно — встанет или нет. Тогда-то и случилось, что Андрей оказался чужим и улице. Соседка продала корову. Деньги спрятала в матрац. Через день-два кинулась искать, а денег нет. Кто взял? Конечно, тот, за кого заступиться некому.
Припомнила соседка один Андреев грешок. Занимал Андрей у нее как-то червонец. Прибежал: дядька с теткой послали за червонцем. А оказалось — никто его не посылал. Денежки ему понадобились на книгу «Люди особого склада». Что же тут гадать, кто мог деньги за корову спереть.
Соседка с теткой охаживали его в две руки, как в каком-нибудь там застенке катовали. Конечно, понять их можно: тетке позор, а соседка без коровы — значит, безо всего. Но Андрей денег не брал, додуматься не мог, чтобы взять их, хотя под веревками и пожалел, что не додумался, не спер деньги. Тому, кто сейчас с такими деньгами, хорошо. И ему было бы хорошо. Били бы, да за дело, а так за что страдает?
Отступились от него только дня через два. Пропажа обнаружилась в том же соломенном матраце соседки. Но что уже было до того Андрею? Он не мог простить ни улице, ни городу, что о нем так думают. Он должен был уйти из этого города, чтобы вернуться обратно через много-много лет знаменитым, шикарным, чтобы не только у теток и дядек, но и у коров глаза от зависти повылазили.
В тот первый свой побег в дороге он мог бы не думать о куске хлеба. Деньги дома лежали в двухэтажном застекленном буфете, там же хранился сахар и еще кое-что недозволенное Андрею. Ключи тетка прятала, по он знал ее хованку и в любую минуту мог бы открыть буфет и взять деньги. Он не сделал этого. Ему хотелось уйти по-честному. Он ведь не просто уходил из города и чужой ему семьи. Уходил из жизни, которая не захотела принять его, в которой ему не нашлось места, уходил в иную страну. Какую — это было ему еще неизвестно. Ему еще предстояло разыскать ее и определить. Андрей не сомневался лишь в одном — что она есть. Раз он родился на этот свет, ходит, видит, думает, значит, должен и найти свое место. Оно обязательно есть на земле и уже давно ждет его. Быть может, это солнечный юг, где все время лето, и чтобы прожить там, не нужны ни одежда, ни обувь. Может быть, это где-то у папуасов, куда добирался Миклухо-Маклай, там вообще рай. Голый, босый, а тряхнул пальму — ешь, пей, не хочу.
И он ехал тогда в эту свою шикарную и изобильную страну, правда, так до конца и не определив, где она может находиться. Для начала, конечно, Москва. Не потому, что там рай земной. Просто нельзя было вступать в новую жизнь, не посмотрев Москву. Вокруг нее вращалась фантазия всех ребят его улицы. Там, в Москве, находился Мавзолей. Там, в Москве, жил человек, имя которого называть попусту просто не стоит, но который все знает и ведает, — лучший друг всех детей. И в глубине души Андрей надеялся на нечаянную встречу с ним. Быть может, не совсем нечаянную, но дело не в этом. Тот человек определит его в детдом или ФЗО. Ну, а не выйдет встречи, ничего не поделаешь. У Андрея на этот случай было два запасных варианта. Первый — повернуть из Москвы на юг, где бьется о берег теплое синее море, которое только и ждет его. Второй — податься до Владивостока. Там можно устроиться юнгой на корабль. Принимают, есть ведь счастливцы.
Но чтобы добраться до Москвы, надо было достать хлеба, хоть краюшку. Андрей рискнул попробовать удачи на второй день пути к вечеру. Это было уже почти отчаянье, но что поделаешь. Он слез и подался на вокзал. В зале ожидания было сумеречно и от недостатка освещения, и от плюшевых женских, жакетов, мужицких фуфаек, и рогожных, бережно хранимых этими жакетами и фуфайками мешков.
Андрей долго не мог найти себе места. Желтые эмпээсовские диваны были заняты. А ложиться на пол не хотелось. Выбирать, где прилечь, не пришлось. На него уже косились. Возле печки он приметил молодую краснощекую деваху, по виду добрую, по-деревенски любопытную и ротозейную. Пристроился возле ее мешка и притворился спящим. Но маневр оказался явно неудачным. Деваха словно учуяла что-то неладное, придвинула ближе к себе мешок, посмотрела на Андрея, как бы сказала: и не думай и не гадай, милок, знаю я тебя, знаю, тут не пообедаешь.