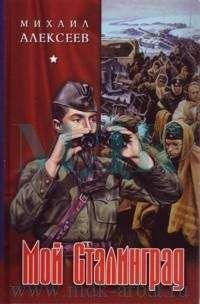Михаил Алексеев - Хлеб - имя существительное
В заключение Акимушка объявил:
– Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Той же ночью новый Глафирин дом сгорел начисто. А утром милицейский мотоцикл с коляской увозил тетеньку Глафиру в райцентр.
Тетенька Глафира сидела в коляске «в спокойствии чинном», обхватив короткими толстыми ногами пухлый узелок, будто ехала на рынок в очередной свой привычный рейс. Время от времени, когда мотоцикл уж очень резко подпрыгивал на выбоинах, она просила тихим, воркующим голосом:
– А ты, сынок, потише маненько. А то внутрях чтой-то вздрагивает. Не ровен час, оборвется...
Журавушка
По какому-то давнему недоразумению к слову «ночь» люди стали прибавлять пугающие эпитеты: темная, черная, глухая и даже кромешная. Темнотою ночи стращают малых детей, уверяя их, что под окном бродят голодные волки, которые только и думают о том, как бы съесть Манятку или Ванятку. Уверяют также, что, помимо волков, по ночным улицам и проулкам рыскают разбойники. При этом как-то забывается, что разбойники тоже люди, и не им ли обязана ночь дурной своей репутацией? Что сама-то она тут ни при чем. Что вовсе не для волков и не для разбойников создана она, ночь, ноченька, ночушка.
Мы страшимся ее, между тем как именно ночью совершается самое удивительное, что только бывает на земле.
Уставший человек может хорошо отдохнуть лишь ночью. Долгая засуха, невыносимая жара, казалось, должны были иссушить, испепелить все живое на земле, и представляется великим чудом, что там и сям зеленеет еще трава, и никто не подумает, видя такое чудо, что спасла эту травку капелька росы, которая невесть откуда появляется на ней всякий раз, когда огромное раскаленное светило нехотя, медленно погрузится за кровавый от зноя горизонт.
Не когда-нибудь, а именно ночью распускаются лепестки цветков. Сказывают, что есть на земле растение, которое цветет один раз в сто лет. Тут бы и добавить: раз в сто лет и только ночью.
Майскими ночами сердце наше замирает от соловьиных песен. Но соловей поет и днем. Однако дневным его руладам чего-то не хватает: сочности, что ли, иных ли каких оттенков. Видно, для ночи звонкоголосое это существо оставляет лучшую свою песнь. Для ночи, потому что темной ноченькой слушают эту песнь влюбленные, в святом своем эгоизме глубоко уверовавшие в то, что только для них соловей и поет ее.
Ночью расцветает любовь – самый яркий цветок жизни, начало всех начал.
Не знаю, так ли думала обо всем этом Журавушка, но она очень любит ночь. Ей почему-то кажется, что все счастливое, все радостное, случавшееся с ней в жизни, случалось ночью. Покойная мать сказывала, что и родила-то ее ночью, майской ночью, когда из палисадника, из темного сиреневого куста в раскрытое окно вплескивались соловьиные трели. Мать давно померла, а куст этот и сейчас живет, в нем и теперь поют соловьи в весенний месяц май.
Когда Марфушке было семь лет, отец первый раз решил взять ее на ярмарку. Он объявил об этом накануне, а Марфушке не верилось, ей казалось все, что отец обманет, не возьмет, запряжет Буланку и укатит один. Поэтому она решила не спать всю ночь.
Была уже осень, прохладная, но ведреная, без дождей, без сильных ветров. Марфуша лежала на широкой лавке у самого окна и, чтоб не заснуть, напряженно прислушивалась к ночной жизни внутри избы и на улице, за окном. В избе, как только все угомонились, как только от кровати послышалось мерное, спокойное дыхание отца и матери, первым зазвенел сверчок, да так ядрено, что Марфушке вдруг стало весело, и у нее вырвался короткий смешок. Сверчок умолк, но ненадолго. Подождал малость, а потом опять зазвонил и звонил уж до самого утра, утром замолчал – наверное, испугался петуха, который взлетел на завалинку, жестко замахал крыльями, встряхнулся, огромный в сумеречном рассвете, и заголосил во всю мочь.
Чуть попозже сверчка зашевелилась мышь. Легкой тенью перечеркнула лунную дорожку, брошенную из окна на пол. Старый жирный кот Федька удобно устроившийся на животе Марфуши, только шевельнул левым ухом, по мягкому его телу пробежала короткая дрожь, но с места кот не тронулся – ленив чрезвычайно, третий год отец и мать собираются сменить его на молодую кошку, но Марфушка-то знала, что они так и не решатся осуществить свое намерение: к Федьке привыкли, он давно был вроде бы членом их семьи.
За окном, на улице, было поживее. Долго не могли успокоиться воробьи. Устраиваясь на ночлег в соломенной крыше, они все шептались, чулюкали, договаривались о чем-то на своем воробьином языке. Внезапно чулюканье их оборвалось, под крышей на минуту все смолкло. Какая-то длинная ночная птица мелькнула за окном – должно быть, ястреб. В хлевушке, на насесте, испуганно и гневно прокудахтал петух. А потом опять заговорили, завозились под крышей воробьи. Наконец договорились и замолчали. Слышно было только, как ветерок раскачивал свесившуюся соломинку и она скреблась о стекло.
В полночь отец выходил во двор – «подкинуть кормецу» Буланке: до ярмарки восемнадцать верст, не ближний свет. Вернувшись со двора, поправил на ногах у Марфуши одеяло, а она притворилась спящей и чуть было не рассмеялась: так хорошо, так весело было у нее на душе.
С третьими петухами в доме проснулись. Марфуша не спала, но делала вид, что спала еще: ей хотелось, чтоб отец подошел к ней и сказал:
– А ну-ка, дочушка, вставай. Проспишь всю ярмарку.
Он подошел и сказал ей эти самые слова, и ей хотелось скакать от счастья.
...Марфушу приняли в пионеры, а галстука не было, и это омрачило немного такое важное, такое великое в ее жизни событие. Ночью же она неожиданно проснулась с сознанием того, что сейчас, что в эту самую минуту, как ей проснуться, с ней случилось что-то необыкновенное, что-то удивительное и обязательно радостное. Она еще не знала, что именно, но знала наверное, что что-то случилось. И, боясь спугнуть это хорошее, это радостное, это необыкновенное, это удивительное, она поскорее опять заснула. А утром ее разбудил не шум, а яркий-преяркий свет, упавший на ее веки. Она быстро разомкнула их и взвизгнула от безумной радости: прямо перед нею, на спинке стула, висел, пламенея, новый пионерский галстук. Отец стоял против зеркала и брился, как будто ничего такого и не случилось. Марфуша стремительно пробежала по лавке, подпрыгнула, повисла у него на шее и раза три чмокнула в намыленную щеку. И этот кусок пламени на спинке стула, и намыленная жесткая отцова щека, и мать у печки с ее тихой улыбкой, и кот Федька, обнюхивающий кончик красного, незнакомого ему материала, – все, все запомнилось на всю жизнь яркой звездочкой.
Потом был еще костер в пионерском лагере – большой, настоящий костер на берегу речки Баланды. Ребята прыгали через костер, прыгала и она, обожгла немного пятку, и Петька, который был также в лагере, послюнявил палец и долго натирал им Марфушину пятку, твердя: «Сейчас все пройдет». Он говорил, как настоящий доктор, а на маковке у него смешно торчало несколько волосинок, за которые почему-то хотелось подергать. И это все запомнилось, и речка с непоэтическим именем запомнилась и осталась в сердце доброй теплинкой.
Потом было поле, караульные вышки среди зреющих хлебов. Ночное небо, усыпанное звездами. Петька, Васька и Марфуша на вышке. Они вдвоем с Петькой следят за падающей звездой. Ночной жук, больно ударившийся о ее лицо, – смех и слезы. Петька опять слюнявил палец, опять натирал и опять говорил, что сейчас все пройдет. Все и проходило, кроме одного, кроме того, что хотелось, чтоб Петька был всегда рядом с его смешными торчащими волосами, чтобы всегда было это ночное звездное небо, чтобы всегда быть вдвоем.
Потом были журавли. Они прилетели днем. Марфуша спугнула их своим неосторожным вскриком – журавли улетели, а ей захотелось улететь вместе с ними, и она побежала, побежала по полю, бежала и плакала, бежала и знала – она очень хотела этого, – что Петька побежит вслед за нею. И он побежал, и они вернулись, а Васька ушел спать. И они на вышке остались одни, Петька и Марфуша. Одни они во всем белом свете. И это было счастье необыкновенное, когда тебе и ему по четырнадцати лет и когда над головой небо и звезды – и больше ничего. И в груди тревожно и радостно стучит сердце.
А потом было много ночей, и среди них была одна, та, в которую все и решилось. Он сказал:
– Журавушка моя!..
А у нее не было больше никого на свете. И она не закрыла, не захлопнула перед ним калитку. Вошли в темную избу и, не зажигая света, долго, обнявшись, сидели на сундуке. Звенел сверчок, но они его не слушали... Они ничего не слышали: кровь звенела в ушах и висках. Журавушка первой оторвалась от него. Молча пошла к кровати, сдернула одеяло.
Утром она почувствовала небывалую усталость.
– Измучилась я, Петь.
Из глаз ее, темных, больших, лился ровный, тихий свет, и они были очень счастливые, эти ее усталые глаза.
– А ты, можа, уснешь? – сказал он.
– Что ты? – удивилась она и опять потянулась к нему губами, теплыми, зацелованными, немного запекшимися, опаленными внутренним зноем.