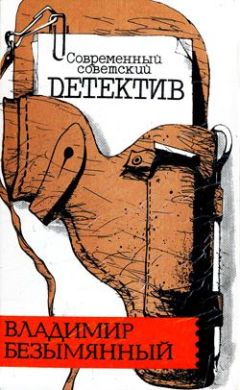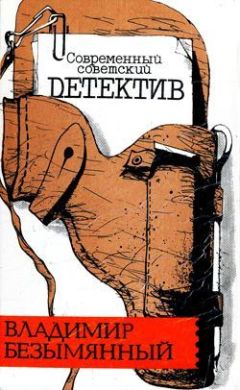Анатолий Ананьев - Версты любви
«Не шумит?»
«Чего нет, того нет. И денег нет, все спустит, а потом сидит по ночам с иглою и дратвой».
«И давно так?»
«Да уж откель счет? Сразу-то, первые годы, вроде ничего, а потом ровно муха какая вжалила, ровно плюнул кто, и пошло, о господи! Тут с Ксеней, ей-то каково, тут еще с ним...»
Позже, спустя почти неделю, говорила это Мария Семеновна, но мне казалось, что рассказывала она лишь то, что я уже знал, вернее, что понял именно тогда, когда стоял перед лежавшим на кровати пьяным Василием Александровичем. Вот и подумайте теперь: человек раскрывается постепенно... Вероятно, сам Василий Александрович и раскрывался постепенно перед Ксеней и Марией Семеновной, но для меня он открылся сразу, за одну эту встречу: и когда вечером рассказывал про Ксеню, и когда затем на другой день явился с работы вот в таком виде, как опустившийся, безвольный, раздавленный жизнью человек. Еще несколько минут я смотрел на его неуклюже свернувшуюся на кровати фигуру, говоря про себя: «Ну, докатился!» — и затем, еще не зная, что буду делать, куда пойду, вышел из дому.
Но, если откровенно, это ведь я просто так говорю, что не знал, куда пойду; конечно же, знал — в больницу к Ксене, иной мысли и не было; уже через полчаса я стоял перед дежурной сестрой, держа в руке небольшой букет ранних красных гвоздик, который купил где-то в центре, когда, расспрашивая, как найти городскую больницу, проходил мимо колхозного рынка; корешки гвоздик были завернуты в газету, и газета казалась влажной от горячей и потной ладони.
«Здесь лежит Ксеня Филева?»
«Да, — ответила мне сестра, полистав книгу записей. — Восьмая палата, второй этаж».
«Можно пройти к ней?»
«Что же вы так поздно? Время свиданий уже заканчивается, — сказала она, но заметив, может быть, как умоляюще я смотрел на нее, с неохотою, но все же достала из тумбочки белый халат и протянула мне. — Только не задерживайтесь».
«Нет-нет, что вы, благодарю вас!»
Я накинул на плечи этот белый больничный халат и торопливо, ничего не слыша и не чувствуя жестких ступеней под ногою, — сознавал я разве только одно: что сейчас увижу Ксеню! — почти взбежал на второй этаж. Как в самый первый приезд после войны, когда прямо из маленького австрийского городка, демобилизовавшись, я примчался в Калинковичи и подходил к дому Ксени, то же волнение, хотя прошло уже столько лет, неожиданно охватило меня, будто я еще не виделся в Чите ни с матерью, ни с Раей, и не было ни Раиных похорон, ни института, ни Москитовки и Зинаиды Григорьевны — ведь вот как устроен человек: все как в воду, в пропасть, и только один светящийся огонек впереди! — и не видел даже только что пьяным Василия Александровича (через минуту, когда буду стоять у Ксениной постели, все пережитое вновь, конечно, вернется и поплывет перед глазами), а лишь, переполненный той давней юношеской надеждою, чувствовал себя так, что будто вот-вот переступлю порог столь памятной мне избы. Какой-то невероятный возврат, какое-то затмение, что ли: все позабыто, и Зинаида Григорьевна, с которой, как вы знаете, я тогда уже жил как с женой, и если начистоту, были же у меня и чувства к ней, а вот поди ж ты рассуди — все позабыто, и я, волнуясь, как мальчишка, шел по больничному коридору, ловя глазами на дверях номера палат. Перед восьмой палатой остановился и негромко постучал; никто не ответил, тогда я снова постучал так же негромко, но продолжительнее и, чуть выждав, осторожно приоткрыл дверь. Сперва я увидел пустую кровать сразу от двери у стены, а за нею, за голубовато-белой больничной тумбочкой — вторую кровать, а на ней укрытую лишь простынею по самый подбородок Ксеню. Она смотрела на меня. Бледное худое лицо ее и глаза в первое мгновение были как бы безразличны — ну, входит кто-то и входит, может быть, нянечка, может быть, дежурная сестра, а может, просто мать (кстати сказать, Марии Семеновны в это время не было в палате; как я узнал потом, она все же поехала домой, чтобы хоть запереть избу, потому что: «Ведь он и этого не сделает, а в комнате какие-никакие, а вещи!»), — в общем, в первое мгновение, помню, лицо ее было столь равнодушным, что я даже подумал, она это или не она, потому что ни разу прежде не видел ее такой; но когда, спросив: «Можно?» — двинулся к ее постели и когда особенно она поняла, а вернее, узнала, кто входит в палату, все в ней как бы преобразилось, и вроде прежние и привычные удивление и радость появились в ее глазах.
«Вы?!»
Мне кажется, она не произнесла этого слова, а спросила беззвучно, взглядом; а может, и прошептала тихо, так, что я не расслышал, но что-то же, конечно, сказала, потому что я помню, что ответил: «Да, я». Я остановился посреди палаты и несколько секунд стоял, словно пригвожденный к полу, продолжая неотрывно и, как ей, наверное, казалось, странно-растерянно смотреть на нее; я почти уверен, что именно так и восприняла она это мое, может быть, и действительно-таки представлявшееся странным со стороны поведение: приехал бог весть откуда, спешил повидать, а теперь будто язык отрезало, боится подойти к кровати и смотрит как на незнакомую, — но, я думаю, да и фактически, если разобраться, ничего странного в моем поведении не было, а просто болезненный вид Ксени, белая простыня, которой она была укрыта, и особенно землисто-серый цвет лица (впечатление это создавалось, как я позднее, приглядевшись, заметил, еще и тем, что висевшее на спинке кровати полотенце отгораживало ее от проникавшего сквозь окно в палату и без того слабого, на улице уже вечерело, света) вызвали в памяти неожиданно как будто и забытые, давно улегшиеся, но до мельчайших подробностей вдруг ожившие перед глазами минуты прощания и похорон Раи. Я даже на миг зажмурился и тряхнул головой, чтобы сбросить это воспоминание, но как только опять взглянул на белую простыню и на бугрившиеся под нею Ксенины руки (как и у Раи тогда, когда она лежала в гробу, как вообще складывают их покойникам на груди), будто и Ксеня и в то же время не Ксеня передо мною, и я в палате, но в то же время и не в палате, а там, в Чите, в доме Лии Михайловны и Петра Кирилловича, и вот-вот увижу то будто спокойное выражение лица Раи, за которым, я знаю, скрывалось огромное желание не выказать, унести с собой весь свой душевный мир забот и страданий. Разница мне представлялась лишь в том, что я не успел и Рая уже не могла ничего сказать, а здесь еще можно поговорить, расспросить, утешить, а главное, попросить прощения. За что, как, почему — я не думал об этом; я только чувствовал, что не сделал для Ксени того, что мог бы, и чувство это было настолько сильно, что в какую-то секунду, ничего не говоря, шагнул вперед и, как кладут цветы к изголовью покойникам, положил гвоздики на прикрытую простынею грудь Ксени. Что она подумала? Как восприняла это? Тогда, сразу, чуть склонившись, я лишь смотрел, как она медленно высвободила из-под простыни руки и, сухими белыми пальцами обхватив корешки гвоздик, прислонила цветы к лицу; глаза ее увлажнились, она прикрыла веки, и в синих морщинках у самой переносицы появились светящиеся капельки слез. Для того, наверное, чтобы я не смотрел, как она плачет, она еще плотнее прикрыла лицо цветами и отвернулась к стене. Да и у меня перед глазами от волнения все начало мутнеть и расплываться, как за дождевым стеклом, и, чтобы успокоиться самому и дать успокоиться Ксене, я отошел к столу за табуреткой и с минуту стоял, подняв ее и держа перед собой; когда же вернулся к постели, хотя как будто удалось подавить чувство жалости к ней, но, как мне и теперь кажется, до самого конца встречи я смотрел на нее так, вернее, с тем выражением сострадания, любви и печали, что то и дело, потому что не могла же она не понимать, что я думаю о ней, глаза ее заволакивались слезами.
«Спасибо вам, Женя», — сказала она, кончиком простыни вытерев слезы.
«Ну что вы».
«Мне еще никто никогда не преподносил цветы», — тихо добавила она и опять отвернула лицо к стене.
«Как вы себя чувствуете? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое. — Что говорят врачи? Василий Александрович сказал, что все идет на поправку».
«Вы его видели?»
«Да».
«Когда? Сегодня?»
«Нет, — солгал я, даже не знаю почему, инстинктивно, что ли, заметив, как все насторожилось в Ксене. — Вчера вечером мы сидели с ним и разговаривали», — докончил я, чувствуя на себе ее пристальный взгляд и стараясь тоже смотреть на нее прямо, открыто, будто и в самом деле говорил только то, что было.
«А вы опять в Гольцы?»
«Да».
«Надолго?»
«На неделю-две, как всегда».
«И вам не наскучило: каждый год?»
«Разве может наскучить то, чем живешь, Ксеня? Гольцы для меня — что родная Чита, что Сибирь, что Севастьяновка, есть такая деревенька под Читой», — начал я и, сказав это, сам не зная почему, повел рассказ про Омутовку, про паром и паромщика дядьку Якова, а для чего? Ведь на душе у меня было совершенно другое, и чувствовал и думал я о другом, а этим рассказом лишь бессознательно, наверное, так считаю, старался приглушить в себе как раз те, другие мысли и чувства. Я смотрел на худое лицо Ксени, и в то время как произносил «дядька Яков», этот самый дядька представлялся мне стариком, что однажды неожиданно пришел в дом Ксени; вот он разворачивает и кладет на стол свой драгоценный деревенский гостинец и затем склоняет перед Ксеней белую старческую голову, я вижу счастливое лицо Ксени и весь ее удивительный мир доброты, счастья и радости жизни и радуюсь, что он есть, что я встретился с ним и что живет он вот с ней, Ксеней, в ее глазах, в движениях ее рук (временами, всматриваясь, я действительно как будто начинал различать прежнюю красоту ее лица), но, как подтачивает червь дерево, въедалась, разрушая и опрокидывая это, в общем-то, уже прошлое, пережитое чувство, тревожная мысль, та же, что возникла, когда я еще только вошел в палату: что я, в сущности, прощаюсь с Ксеней, что это последний мой разговор с ней и что, самое страшное, я бессилен что-либо изменить. «И Рае не хотелось умирать, — думал я, чувствуя, знаете, как если бы то, что случилось с Раей, случилось со мной, как ей не хотелось умирать. — Но она ушла. И Ксеня уйдет, а я жив, и Василий Александрович жив, и тот, о ком Рая не оставила записки, тоже жив! Добро к людям... А плата за это добро? К кому добра жизнь?» Я удивляюсь теперь, как можно было одновременно и думать вот так, о чем я сейчас говорю, и в то же время рассказывать Ксене о разных, и не смешных вовсе, хотя я и старался как можно естественнее улыбаться, чтобы развеселить ее, ребячьих шалостях, какие проделывали мы — да кто из мальчишек не лазил по чужим огородам, боже мой! — в Севастьяновке, и удивляюсь, если хотите, не столько раздвоенности — она возможна, и с вами, наверное, бывало такое, — а тому, как люди; в данном случае я и Ксеня, вполне сознавая, что разговор этот вовсе не интересен для нас, ложен, что говорить надо о другом, а что эти слова — и мои и ее — лишь скользят, как, знаете, капли воды по гладкой, отполированной поверхности, — как мы, я подчеркиваю, притворялись, делая вид, что с интересом я говорю, а она слушает, тогда как главным для нас обоих был совсем другой разговор, безмолвный, что мы читали в глазах друг друга. Ведь она ничего не знала о моей жизни, я никогда не рассказывал ей ни о любви к ней, ни о пережитой когда-то любви к Рае, и о том, как хоронил ее, и, конечно же, ни о Москитовке и Зинаиде Григорьевне, но Ксеня смотрела на меня так, будто знала все, и так же, как я жалел ее и чувствовал, что мог бы сделать ее счастливой, я видел, она жалела меня, будто ей было известно, как мучился я эти годы, тоскуя и думая о ней, известны все малейшие движения моей души, и ей было больно, что она кому-то, кто не оценил ее, а не мне отдала копившиеся в ней для жизни добрые чувства. «Вот видите, — как бы говорила она, минутами вскидывая на меня глаза, — если бы тогда вы взяли меня или хотя бы не опоздали, ничего этого не было бы сейчас. А разве я не хотела поехать с вами? И разве не говорила вам об этом?» Может быть, поддавшись тому давнему воспоминанию, я вдруг — точно помню, что вдруг, потому что и ее смутил и сам смутился, — нагнувшись, взял ее руку и так же, как когда-то в подражание комбату, но, разумеется, теперь не думая о том пожал ее холодные пальцы.