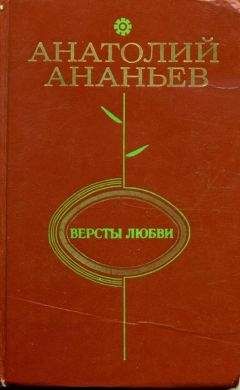Дмитрий Холендро - Городской дождь (рассказы)
— Я прошу твоей руки, — повторил он.
Она молчала, а он ждал.
— Миша, — сказала она наконец, — Миша! — и заплакала.
У неё были впалые щёки, и слёзы потекли по ним длинными змейками, и ему стало ещё жальче её.
— Ну что ты, Оля?
Он склонился и поцеловал её руки, лежавшие па столе и пахнущие скипидаром и маслом.
— Оля!
Слёзы стали крупнее, потяжелев, они срывались с ресниц.
— Не проси. Зареву в три ручья.
— А чего же ты плачешь? — спросил он, улыбаясь во весь рот, потому что глаза его давно сияли от счастья.
Как только первая слеза мелькнула на её подкрашенных ресницах, сердце его перелила горячая радость, от которой он сам чуть не заревел. От такой радости у людей кончаются слова. А чем ещё выражать её, никто не знает, такая радость редкая гостья, и люди бьют себя кулаками по голове, топают ногами или вот — просто ревут бессильно, в три ручья.
— Оля!
Ресницы её намокли, и под глазами размазались тени.
— Скажи, что ты пошутил.
— Почему? — спросил он, и плечи его запрыгали, он смеялся, ещё ничего не понимая. — Я не пошутил. Я серьёзно. Так серьёзно, как никогда.
— Сейчас, — сказала она, вскочила и скрылась в ванной, а когда вышла с насухо вытертым, обесцвеченным лицом, словно по нему прошлись мастихином, он ещё улыбался,
— Миша, — сказала она, присев на прежнее место и сцепив пальцы. — Ты мой друг… Друг, которого у меня никогда не было! Но ведь этого мало!
Он не видел раньше, как ломают пальцы. Оля крутила их и стискивала, наверное, до боли. Он смотрел на её пальцы и жалел даже их. Он оглох, как после контузии. Но улыбался ещё…
— Я бы пропала без тебя… Не фигурально… Пропала, и всё. Я ведь дважды бросала всё, а потом хваталась за кисти, чтобы было что показать тебе. Ты не знаешь, в какое тяжкое время появился! Миша! Ты мой друг? Правда?… Что я говорю! Миша, я не могу!
Гримаса перекривила её лицо, и она бухнулась головой на руки и зарыдала.
— Ну вот, — сказал он. — Вот ещё… Перестань!
— Миша! Я ужасная, я не умею врать. Что мне делать с собой? Научи, накажи, только не бросай! — сказала она тихо, молящим голосом, распрямившись перед ним.
— За что тебя наказывать?
Это было концом разговора, и она с удивлением и благодарностью посмотрела на него и вздохнула, собираясь что-то сказать, но это стало бы началом новых ненужных фраз, и она опять вздохнула и подвигала губами, стараясь улыбнуться.
— Хочешь чаю?
— Поздно уже.
— Отосплюсь в Кисловодске.
— Когда это будет?
— Через месяц.
Вероятно, она заметила серость на его лице, он-то знал, как лицо его в такие минуты темнело от серости, и встал, чтобы уйти.
— Подожди! Нельзя же так!
Она вскочила, и руки её заплясали — ещё для него. А он сел и смотрел на неё, прощаясь.
Исчезли пути,
проторённые временем в жизни.
Повсюду — пустыня.
И сердце молчит,
не рождаются в сердце желанья,
Повсюду — пустыня.
Закат отпылал,
и рассвета назавтра не будет.
Повсюду — пустыня.
Замолкло, ушло,
онемело, иссохло, остыло.
Повсюду — пустыня.
Он прочитал эти стихи не для неё. И не для себя. Просто — так было уже с кем-то.
— Кто это? — спросила она.
— Лорка. В ужасающем переводе.
— Чьём?
— Моём.
— Ты переводишь стихи? Тоже профессиональная страсть геологов?
— Не знаю.
А правда, ему никогда не приходило в голову, почему многие его товарищи таскают по тайге сборники стихов в рюкзаках и часто пишут сами, как правило, скрывая это от других. Вся таёжная жизнь была у них такой, точно часы, а за ними и дни становились длиннее. Не- многолюдье, а то и одиночество позволяли оглядеться вокруг. И увидеть вековые кедры и странные, чёрные, с розовыми боками камни в траве, и услышать ручьи и выстрел охотника, и запомнить облако в небе, и подумать о себе и о том, что всё это переживёт тебя. Музы не терпят суеты. И может быть, несуетность рождала музы? Кто скажет!
Была ещё такая спутница — тоска. Ты старел, а тоска не старела. От страха перед огромностью тайги она прижималась, как ребёнок, и ты слышал вдруг её вздохи. Стихи помогали заглушать вздохи, возвращали к жизни, возвышали мысль в просторах вселенной. Самые грустные стихи, скрашенные ради людей шуткой, Маяковский написал в океане. Может быть, тайга, как и океан, была стихией, отрезвлявшей мысль и умевшей без позы поставить рядом бога и человека, труд и любовь, смерть и шутку…
— А где ты изучил испанский?
Он был два года на Кубе, помогал революции открывать под плантациями сахарного тростника богатства, которые лежали глубже и стоили дороже, как сказал на встрече с советскими геологами Кастро. Испанский дался незаметно, сам собой. Как-то ночью, читая Лорку на родном его языке, он вооружился сигаретами и карандашом и взялся за перевод для себя. Сигарет было много, и он перевёл сразу два стихотворенья, в следующие ночи ещё несколько, пока не обнаружил, что получается плохо…
Сейчас, однако, он без стеснения прочёл стихи и рассказал, как это было, словно стал другим человеком, потому что всё у них стало другим.
— Сигареты кончились, — сказал он, похлопав по карманам. — Нет ли у тебя где в заначке?
— Ой, Мишенька, нет. Я сейчас сбегаю к соседу.
— Первый час.
— Фиг с ним! Я сейчас вернусь. И ты мне ещё почитаешь Лорку. Ладно? — Она махнула и убежала, поправляя на ходу бретельку под блузкой, на плече.
Он не помнил, как встал и вышел. На улице он замотал шарф плотнее и потащился домой, заранее пугаясь пустоты и темноты, ожидавшей его в квартире. Собаку завести, что ли! Лохматую собаку, которая будет скулить у ног и стучать по паркету хвостом. Оля рассказывала, что у неё была собака, но после смерти дочери её пришлось отдать. Ушёл по её воле муж, ушла домработница, не с кем стало оставлять собаку на день.
«Милый!» — вспомнилось ему, и он удивился тому, что сразу не разгадал в этом слове той дружеской доброты, которая только и была в нём. Оля благодарила его за дружбу…
На одном спектакле перед ней оказался верзила — плечи на уровне голов слева и справа, пришлось уговаривать её поменяться местами, а она только хлопала но руке, унимая слишком громкий шёпот, и в антракте объяснила:
— Не умею сидеть слева от кавалера…
И сказала это с лёгкой шутливостью, как говорят друзья. А он не заметил этого оттенка… В следующий раз перед ними никого не оказалось. И в следующий — скова два пустых места.
— Слушай, — догадалась она, — не покупай больше, пожалуйста, билетов на места впереди.
— Тебе же загораживают…
— Ухарь-купец!
Опять всё было легко, по-дружески.
Правда, он застеснялся. Вряд ли он выглядел ухарем-купцом, это было не похоже на него, солидного министерского работника, но мальчишество определённо сквозило в поступке не очень молодого человека. Этот немолодой человек нередко смотрел на него со стороны. Странным образом он теперь раздваивался и судил себя сам. Немолодой человек всё понимал и должен был бы устыдиться, но поступал совсем неожиданно. Мальчишество? Ну и что? Как будто он хотел сказать: ну, и прекрасно, чёрт возьми!
— Просто вы любите меня… — услышал он голос Оли.
Нет, это было не просто. Так не просто, что он, действительно, почти оглох и ослеп и не понял лёгкости в её отношении к себе, беззаботной лёгкости, которая радовала, ничего не обещая, и поэтому стала сейчас так тяжела. Несерьёзная, весёлая лёгкость. А он становился непростительно легкомысленным от счастья.
Если бы всерьёз, не было бы её, этой лёгкости. Была бы молчаливая, как испытание, немота, когда что-то не нравилось Оле, была бы, наверно, испуганная и даже излишняя хмурость. Немолодому человеку стало стыдно за себя, но он никого не винил в том, что случилось. Он сам довёл себя до этой длинной дороги домой. Полночи он бродил окрестными улицами и переулками, понимая то, что должен был понять раньше. Но что же ему было делать? Он любил её. Он и сейчас не знал, что делать…
В коридоре тёмной квартиры вздрагивал и замолкал телефон. Оля звонила ему. Утром надо будет как-то объяснить ей. Хотя ничего ей объяснять не придётся. Она молодец, что сказала правду. Она уж и сама всё ему объяснила.
Всё же в десять он решил позвонить ей в мастерскую, там был телефон, к которому подзывали, если очень попросить, но он не успел позвонить. Едва пришёл в министерство и уселся за стол, как раздался звонок. Она сама позвонила.
— Миша! Это ты? Ну слава богу! Я убежала рано и не стала тебя будить. Приходи сегодня. У нас есть пирог и сигареты. Ну, конечно, взяла двумя этажами выше, там сосед покладистый, пилот. Какой? Пилот первого класса. Высокий, красивый. Тот самый, у которого я гуляла, когда его назначили командиром корабля. Хлопнула две рюмашки за взлёт и посадку.
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/134563/134563.jpg)