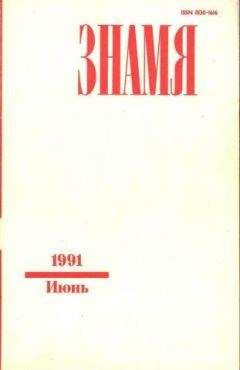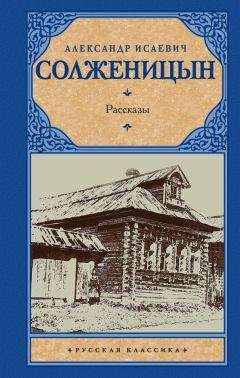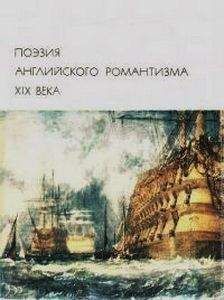Виктор Московкин - Золотые яблоки
Наташа обрадовалась ему. Она приболела, хотя простудиться справедливее было бы Саше: после той первой встречи он пришел домой с окоченевшими ногами, насквозь промерзший. Наташа сидела у стола в углу, закутавшись в теплую шаль. Саша с нежностью смотрел на ее побледневшее лицо с потрескавшимися горячечными губами.
— Ты не обращай внимания, все уже прошло, — ласково сказала Наташа, заметив в его взгляде еще и сострадание.
Анна Афанасьевна подала чай, и вот за чаем Саша понял, почему Наташа ничего не знала об обитателях поповского дома: она родилась и жила в Воронеже, мать ее погибла в войну, одинокая Анна Афанасьевна взяла Наташу к себе.
Саша слушал Анну Афанасьевну и все возвращался к школьной поре, когда они считали учительницу злой и несправедливой. Или время меняет души людей, как и внешность? Сидела за столом добрая старушка, рассказывая, украдкой смахивала слезы. Ничего в ней не было от прежней учительницы.
— И досаждали же мы вам в школе, — вырвалось у него.
Анна Афанасьевна скупо улыбнулась и спросила, что ему приходится делать на заводе. А Саша покраснел от неловкости. «Зря напомнил ей о школе: неприятно вспоминать, иначе не перевела бы разговор на другое». Он был из тех чувствительных натур, у которых сразу портится настроение, если они вдруг почувствуют, что сделали или сказали не так. Он невнятно мямлит, что их небольшой участок изготовляет «просечки», начинает объяснять, что это такое, и совсем запутывается. «Видели — у школьного пера ближе к носику есть дырочка, так вот она просекается, ну, в общем, такое приспособление…»
Анна Афанасьевна согласно кивает, хотя для нее так и остается непонятным, как делается эта «дырочка» на школьном пере. А у Наташи искрятся смехом глаза, она с любопытством приглядывается к Саше и наслаждается его растерянностью — таким он ей нравится еще больше.
— Тебе знакомо слово «стенографистка»? — спросила вдруг Анна Афанасьевна.
Он удивился вопросу, подумав, сказал нерешительно:
— Это когда человек записывает слова придуманными закорючками…
— Пусть закорючками, — усмехнулась старая учительница. — Так вот, я была стенографисткой и всю жизнь мечтала остаться ею…
Бледной голубизны глаза Анны Афанасьевны оживились, помолодели, и четче стали морщины на темном сухом лице. Папиросу в длинных пальцах вытянутой руки она держала как-то небрежно и красиво.
— Пусть будет тебе известно, мальчик, я стенографировала все заседания городской думы, меня приглашали научные общества. Боже, сколько я сделала записей под диктовку! И каких людей!.. А в девятнадцатом году я уже работала в школе.
Папироса хрустнула, когда она придавила ее в пепельнице, сухие, с темной кожей руки дрожали.
— У вас не было работы — вы пошли в школу? — с сочувствием спросил Саша и постарался представить то время, когда еще была городская дума.
— Нет, тут другое. — Она встряхнула седой головой, выражение лица стало злое, и Саша на миг увидел в ней прежнюю учительницу. — Совсем другое. Стенографистка… Мало кто понимал, что это такое. Я говорю прежде о тех, кто тогда, в первые годы, распоряжался властью. Не иначе, буржуйка. И я в глазах их была буржуйкой. Учительница — понятней. И меня направили в школу. Все время я мечтала вернуться, но не могла решиться сразу. А потом было уже поздно. Потом всегда бывает поздно. Запомни это.
До чего же много курила она! Вот уже опять пальцы разминают папиросу. Спичка сломалась, она, словно удивляясь, оглядела ее, потом перевела взгляд на Сашу. Унылая почтительность, с какою он слушал, видимо, позабавила Анну Афанасьевну. Она участливо стала расспрашивать, любит ли он читать и что читает. Саша догадывался, что за вопросами о работе, чтении скрывается ее желание понять, кто он такой. «Думает, не во вред ли будет Наташе знакомство со мной». Напрягая память, он назвал несколько книг.
— А что ты читал Толстого? — спросила она.
Он растерянно взглянул на нее: почему спросила о Толстом? Разве что сама прочитала заново какую-нибудь его книгу и спросила под впечатлением ее…
— Да уж больно он много поучает, — небрежно обронил Саша.
Анна Афанасьевна изменилась в лице, взгляд стал строже. Но он уже и без того сообразил, что сказал глупость, какую только может сказать человек, хотя ему еще и нет полных семнадцати лет. В каких тайниках хранились у него вырвавшиеся необдуманные слова? Чужие слова… Видимо, когда-то кем-то оброненная вскользь фраза запомнилась ему, и он ее повторил. Сам от себя ничего подобного он сказать не мог, потому что к тому времени всего-то читал «Хаджи-Мурата» и «Кавказского пленника».
— Похвально, — искоса поглядывая на него, сказала Анна Афанасьевна. — Не любим задумываться, спешим в выводах, спешим в жизни… И ничего не успеваем. Между тем, этот писатель звал познавать себя, — сказала она, строго разглядывая Сашу. — Он считал, что зло таится в нас самих…
— Но чем-то это зло вызывается, — возразил Саша. От чувства своей неловкости он стал дерзок.
— Разумеется, — согласилась с ним Анна Афанасьевна. — Ты говорил: в школе досаждали мне. Все так. Когда-то мне причинили зло, я перенесла его на вас, вы — на меня. Видишь, какой круговорот. Тебе хочется спросить, как же выйти из этого круга? Не знаю. Наверно, надо сразу противиться злу, которое на тебя налагают. А если запоздаешь и зло уже в тебе, лучше уничтожать его, не давать ему накапливаться. Но для этого надо хорошо знать себя и иметь много сил.
Он украдкой взглянул на Наташу, она сидела с опущенными глазами, будто стыдилась тетки.
Саша стал прощаться. Наташа вышла вместе с ним в коридор.
— Забудь, — ласково сказала она и выразительно повертела пальцем у виска. — Сам понимаешь, старая уже… Ты послушал бы, о чем они только говорят, когда к ней собираются такие же старухи. Со скуки помрешь.
— Нет, почему, было очень интересно, — пробормотал Саша.
Теперь он приходил к Наташе почти каждый день. Он работал, и ему было приятно знать, что вечером будет вместе с ней, они будут бродить по улицам поселка среди серых домов, еще с войны окрашенных маскировочной краской. О чем они говорили? Да вроде ни о чем существенном, но очень важном для них. Анна Афанасьевна относилась к Саше доброжелательно, разговоров о своей неудавшейся жизни больше не заводила. Но ее редкие вопросы опять-таки доставляли ему смутное беспокойство.
Саша полюбил в их комнате широкий, мягкий диван. Как приходил, пристраивался в уголке этого дивана и с наслаждением наблюдал за Наташей, которая всегда чем-нибудь занималась; чаще раскладывала на столе выкройки и, выпятив нижнюю губку, стригла ножницами кусочки ткани — она училась на закройщицу. Иногда она взглядывала на него и улыбалась, и тогда ему хотелось ее поцеловать. Тетка сидела у окна, ближе к свету, и читала. Вскинув очки на лоб, она раз спросила:
— Что же ты думаешь делать?
Вопрос застал Сашу врасплох, не сразу догадался, что она допытывается о его жизни.
— Работаю, — смущенно сказал он. — Разве этого мало?
— Нет, конечно, — ответила Анна Афанасьевна и отвернулась, будто была недовольна им. Саша не мог понять, чего она от него хочет.
Все чаще голубело небо, днем на тротуары звонко шлепала капель. И воздух был пропитан запахами весны, особенно вечерами, когда натаявшие за день лужицы покрывались ледком.
Когда сошел снег и подсохло, открылся сад с танцевальной площадкой и летним кинотеатром. Стали с Наташей ходить туда. В саду цвели липы, играла музыка и было так хорошо!
Как-то Саша пришел раньше, Наташа сидела на подоконнике; окно было раскрыто, и солнце сушило ее мокрые волосы. Она была в коротком ситцевом халатике, босая, такая милая и домашняя. Он обнял ее, и она прижалась к нему всем мягким податливым телом. Потом они очутились на диване. Саша целовал не отвечающие, одеревеневшие губы, неизъяснимо сладко пахнущие молоком, нежную, перетянутую складками, как у ребенка, шею. Теряя рассудок, он отстегнул верхнюю пуговку халата, она торопливо помогала ему. Это он потом уже, вспоминая, видел ее твердые маленькие груди с трогательно беспомощными коричневыми сосками, — теперь же в исступлении, не помня себя, уткнулся лицом ей в плечо… И не было человека счастливее его, вообще никогда не бывало больше такой минуты полного счастья.
В коридоре хлопнула дверь и что-то грохнуло. Наташа резко вывернулась, прошептав в торопливом испуге: «Тетка… тетка пришла».
Это пришла соседка по квартире, и, узнав о том, Саша снова попытался обнять Наташу, но она ласково отстранила его:
— Не надо, уходи… Какой ты глупый…
Осенью на заводе собрали отряд для работы в подсобном хозяйстве: рано выпал снег, и остался картофель в полях. Хозяйство было далеко, за Курбой. От этого старинного села надо было еще проехать километров пятнадцать. Кругом был лес, но не тот могучий, с елями, соснами, что всегда радует, — на низинной местности рос осинник, ольха и у ручьев непролазный ивняк. Поля пятнами вкраплялись в эти дикие заросли. Однажды они запоздали, было уже сумеречно, и услышали дикий вой волков. Ребячий визг, плач матерей, жгучий предсмертный крик слышали они в лесу. Перепугались, потому что не сразу поняли, что это воют звери. Запряженные в подводы лошади шарахались, тревожно ржали. Саша в каком-то сумасшедшем восторге, в котором находился все последнее время, побежал к лесу, — ему захотелось увидеть этих зверей, которые умеют подражать людям, пугать их. Но, подбежав к кустам, увидев черноту леса, оробел и остановился.