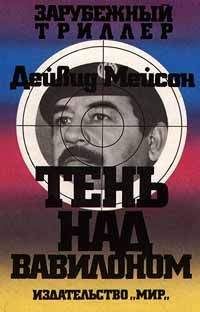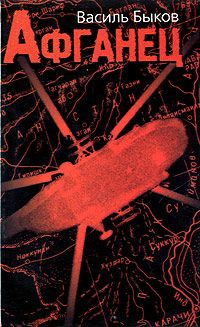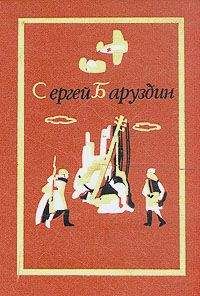Василь Земляк - Лебединая стая
— Чтоб я вам служила? Да будьте прокляты!
Лукьян бросился к ней, молил, держал за руки — он один знает, как осточертела ему эта хата, — а Данько еще поколебался, похмурив брови, но, слыша мольбы брата, и сам подошел к девушке. Подошел и остолбенел. Он никогда еще не смотрел на нее вот так, в упор. В глазах так и пылало синее пламя, каждая веснушка на красивом, чуть задранном носике, казалось, трепетала, придавая всему лицу удивительную привлекательность, упругая верхняя губа с пушком подергивалась от гнева.
— Прости меня, Даринка, — искренне сказал Данько. — Ей-богу, я совсем забыл, что ты в хате. Я привык, что мы одни…
Лукьян уверенно отобрал у Даринки котомку, а Данько как можно учтивее взял бунтарку за руку и усадил на лавку. Девушка невзначай подняла глаза на маленький портрет Шевченко, обрамленный выцветшим рушником, и где-то в душе у нее отозвалось: «Батрачка» [14]… Нет, не батрачкой чувствовала она себя в эту минуту. Ей показалось, что она покорила братьев своим гневом и отныне либо будет в этом доме хозяйкой, либо уйдет прочь, мыкаться меж хороших и плохих людей. Она рывком выдернула свою руку из руки Данька, поднялась с лавки и с минуту стояла, гордая, исполненная достоинства, ощущая всю меру своей власти над ними. Братья отвернулись, чтобы скрыть от нее и друг от друга свое смятение, если не свою покорность. Они разом вышли с неясным чувством не то тревоги, не то стыда.
Выбравшись на улицу, Соколюки шагали молча, каждый по-своему раздумывал о Даринке. Их сосед Явтух стоял, как всегда, за плетнем в вышитой рубашке, в черной жилетке, той самой, недоношенной когда-то паном Родзинским, а поверх накинув еще кожушок, и сдержанно кланялся, чуть приминая ворот:
— Доброго здоровьичка, Соколючки!
Они ответили ему, улыбнувшись. Вот так Явтух стоит за плетнем каждый праздник, каждое воскресенье, показывает людям вышитую рубаху и черный касторовый жилет, но когда-нибудь дойдет и до штанов (за деньги, полученные от Бубелы на штаны, Явтух купил Присе гуню [15], и до сапог дойдет, и до двухцветного пояса, до всего — таков уж он, Явтух.
Хотя, кстати сказать, отсутствие всего этого и сейчас не мешает Явтуху считать себя настоящим хозяином. Правда, он никому ничего не одалживает, но и сам не знает, что такое долги, у него все свое: плуг-пятерик, ручная мельничка, телега и все другое, необходимое дозарезу в самом малом хозяйстве. Явтуху досталось порядочно земли — на деток, — и теперь он уже не дождется, чтобы они подросли и можно было загнать их в борозду. Как только это свершится, Явтух опередит многих, и те, несчастные, будут ему земно кланяться. Нынче, когда Вавилон празднует Михайлов день, обжирается и пьянствует, напрочь позабыв и про святость дня и про звонницу-известянку, стоящую возле погоста на северных отрогах горы, Явтух дольше обычного выстаивает за плетнем и мечтает о тех временах, когда он поставит у себя во дворе грозные машины, которые сотрут в порошок надутый Вавилон и все покорят ему, Явтуху, только бы поскорей подрастали дети — для земли.
От его недреманного ока ничто не могло ускользнуть в усадьбе Соколюков, он и обедать-то садился у окна, из которого их двор хорошо виден. Недаром у братьев вошло в привычку говорить: «И не повылазят у него зенки, у аспида!» Явтух знал все их достатки, до кур и петухов. А нынче утром неожиданно обнаружил там Даринку. «Как? Почему? — возмутился он. — Эксплуатация чужого труда?» Что же он-то, мать его за ногу, не додумался до этого раньше, не взял Даринку к себе? Когда Соколюки миновали его двор, Явтух, как ни хотелось ему не показывать всего себя в такой день, тихонько отодвинул штакетину в заборе и, оглянувшись, нет ли кого поблизости, крадучись, воровато шмыгнул к соседям. Отворил наружную и сенную двери и появился на пороге так внезапно, что Даринка вздрогнула от страха.
— Это вы?
— Я, милая, я. А ты что тут делаешь? Нанялась? К этим жеребцам, к этим скрягам, что себя морят голодом и тебя сгонят на тот свет?! Иди лучше ко мне, не батрачкой, а так… Детей нянчить…
— На что мне ваши дети? Когда-нибудь свои будут…
— Без венца, без свадьбы?
— Ну, а что, если я тут уже хозяйка? — Даринка жеманно прошлась по комнате.
Он посмотрел на ее крепкие, ухватистые руки. О, сколько они могли бы сделать для него, догадайся он присвоить их раньше! Сколько свеклы вырастили бы для Журбова! А ведь это деньги, чистый капитал…
И он пошел домой советоваться с Присей, которую не отпустил к престолу. На душе у него было скверно, и он ни с того ни с сего побил Присю, словно та была виновата, что Даринка у Соколюков, а не у них, Голых… Прися выбежала из дому босиком, полураздетая — в чем стояла у печи — и, спасаясь от мужа, метнулась к Соколюкам. И, что самое ценное, не заплакала, а только смеялась и бранила своего муженька, остерегая Даринку от такой доли, как у ней, Приси. Ноги у нее от холода побагровели, груди едва умещались в кофточке, лицо расслабло и от этого все лучилось добротой — она снова была не то на четвертом, не то на пятом месяце. У Соколюков тепло, уютно, не хотелось уже и уходить, но почти следом пришел Явтух, принес сапоги, платок, гуню, попросил прощения, обул ее, одел и повел домой, тоже кляня судьбу:
— Не дай бог никому такую жену, как моя. Один раз гиоедешься с ней на возу — и уже с прибылью… — и он сплюнул под ноги.
Зато он вел ее с таким вавилонским шиком, словно они вместе были тут в гостях. А вавилоняне, празднуя, пели…
— Прися, а помнишь песенку, что ты пела мне, когда мы пасли овец у Тысевича, будь они прокляты?
Голосок у Приси есть, ну, она и запела ему потихоньку у ворот ту песню:
Пасла коров за рекою на раздолье
Да набрала красных маков в чистом поле.
Облетают с моих маков лепесточки,
Нагоняют меня парни на мосточке.
А я беру себе в пару не каждого —
Красивого, разбитного, отважного…
— И что она тут найдет?
— Кто?
— Даринка! Ты что, вечно об одном себе думаешь?..
— Вот тебе и будь здоров!
— А ты не будькай у меня, не будькай! Вон уже и дети побились.
В хате что-то грохнуло, зазвенело, разлетелось вдребезги.
— Кувшин! — крикнула Прися и метнулась к дверям. А Явтушок укоризненно кинул вслед:
— Что старые поют, то и молодые чирикают. Хе-хе-хе!
Пузатенький горшок с фасолью стоял на полке под самым потолком, а они, озорники, дрались подушками, ну и задели. Фасоль раскатилась по комнате, и теперь все восьмеро вместе с матерью собирали ее. И так всегда: только она к Соколюкам — дома несчастье либо на поле беда. Помните, в тот день, когда она купала тех антихристов, Явтушок дважды опрокинулся со снопами ни с того ни с сего, на ровном месте…
В это время возле только что освященной звонницы весь Вавилон уже гомонил о Соколюках. Шутники расспрашивали братьев, кого из них поздравлять: старшего, младшего или обоих вместе? С основания Вавилона никто еще не видел, чтоб у двух братьев была одна примачка в хате. А между тем девок в селе хоть пруд пруди, богатых, правда, мало, зато бедные, как маки, цветут. Нет, нет, не иначе, этот клятый Лукьян перенял что-то от штунды, сходили с ума набожные тетушки, проклиная всех богов, кроме Иисуса, и жалея, что в Вавилоне нет своего прихода, некому призывать на грешников кару перед алтарем.
На Данька и Лукьяна обрушилось столько коварных вопросов, недоброжелательных взглядов, что братьям престол стал не в престол и они, не отведав как следует праздничного хмеля, примчались домой избавляться от Даринки. Условились извиниться перед нею и выпроводить навсегда, чтобы сразу же прекратить всякие пересуды. Но стоило им только открыть дверь и войти, как весь этот вавилонский дурман разом слетел с них.
В хате словно посветлело, все темные углы исчезли, пол подмазан и посыпан увядшей травой, которую Даринка нашла в овине, не стало паутины, с образов и портретов стерта пыль, а сама виновница этого мыла в корыте волосы, продушив всю комнату любистком. Братья переглянулись и не посмели сказать ей ни слова. А она потом еще долго стояла перед осколком зеркала, вмазанным в стену, и расчесывала мягкую косу с чудесной позолотой, которую оставило на ее голове пастушье лето.
Неспокойная ночь настала для всех, когда в уголке умолк сверчок, услыхав тревожное человеческое дыхание. Данько, как всегда, постелил себе на земляном полу, принеся для этого из овина большой холодный сноп соломы, Лукьян разостлал себе дерюжку на протопленной печи, а Даринку, как уговорились накануне, упросили лечь на кровать, переложив на сундук целую гору подушек, небезупречно белых, слишком больших и потому совсем непригодных в изголовье — каждая подушка годилась разве что для чудища с львиной головою из старой детской сказки, — и все пользовались думками, маленькими, заношенными, но очень удобными для сна. После утреннего происшествия ни один из братьев не решился раздеться до исподнего при свете. Даринка же не стала раздеваться и после того, как Лукьян погасил плошку — у ней не было хорошей сорочки, — и тихо прилегла на постель в верхней одежде, которой прикрывала свою ветхую рубаху. И тут Лукьян вспомнил, что в сундуке осталось много белья, которое, верно, придется впору Даринке. Мать наготовила белья, так не истлевать же ему напрасно в укладке. Он выждал, пока Даринка уснула, потом тихонько слез с лежанки и подошел к брату посоветоваться, Данько ведь мог быть и против.