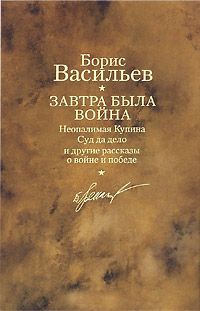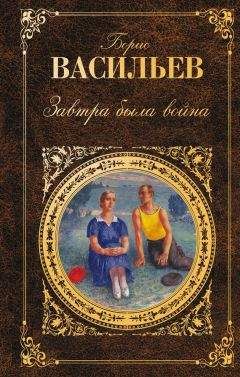Борис Васильев - Завтра была война. Неопалимая Купина. Суд да дело и другие рассказы о войне и победе
Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть, почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите. Мы детдомовские ребята, о чем и рапортуем, а вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит, я насчет чувств не очень, но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам всё про всё.
Ваш сосед Олег Беляков».
То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментальна стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Она три раза перечитала «автобиографию» и три раза ощутила тепло в душе. И прямо — письмо требовало ответной прямоты — сказала об этом Олегу.
— Затем и писал, — признался он и неожиданно добавил: — Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем?
— Вот это уже ни к чему.
— Боитесь, что стащим что–нибудь? Правильно: детдомовские, они такие.
Так спросил, так прокомментировал и так улыбнулся при этом, что она не смогла сдержать ответной улыбки. Но проворчала:
— Не терплю одолжений.
— Сочтемся! — безмятежно пообещал Беляков. — Обои показать или Алке выбор доверите?
— Доверяю, — сказала Иваньшина, но уже без ворчания и вполне серьезно.
А соседи во время ремонта все–таки кое–что «стащили»: адреса ее прежних «квартиранток», разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая…
— Тоня, что с тобой? Что же ты мне–то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь–то? Не узнаешь, что ли?
— Зинка, — с трудом выговорила Иваньшина, и слезы хлынули бурно и внезапно: впервые с того вечера. — Зиночка–корзиночка.
— И не одна, — всхлипнув, шепнула самая первая ее подопечная. — Эй, сынок! Иди с теткой своей познакомься.
И вошел застенчивый, неуклюжий, нескладный какой–то парнишка. Ну да не в этом дело, а в том, что на другой день Олега Белякова лишили постоянного пропуска в их отделение.
— Ну, знаете. — Лечащий врач только руками развел. — Мы с таким трудом Иваньшину из паралича выволокли, а вы?
— А я? — благодушно переспросил Олег. — Спасибо за комплимент, и давайте назад постоянный пропуск. Ее кормить надо, на ваших харчах йог и тот ноги протянет.
— Какой комплимент? Тут, понимаете ли, такая нервная встряска вами организована, что…
— Да бросьте, доктор. От радости ведь и вправду не умирают.
Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. Стреляющие боли в пояснице, от которых, как она сама говорила, виделся ей порою салют Победы, прекратились, а там помаленьку да полегоньку начала она вставать и передвигаться. Сначала, как водится, с костылями, а потом с палочкой, самостоятельно. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:
— Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает — замочек я там новенький врезал с секретом, — но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу.
Иваньшина молча прочитала заявление на имя председателя горисполкома, в котором живописно, но без преувеличений была изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце: считать постоянную прописку гражданки такой–то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам. От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названой доченькой, стало и тошно и тоскливо, и Иваньшина подписала его, не исправив даже прилагательное «бессовестный» на какое–либо более вразумительное.
— А она — в суд, — вздохнула Алла.
— И я — в суд, — весело улыбнулся Олег. — У меня справочка об избиении имеется.
Ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке Иваньшина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему–то была неприятна. Однако она ничего не сказала: не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего — о том вечере.
Никакого суда не случилось: девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваньшина не спрашивала, но то, что какой–то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега — тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом, — но по–женски разговорчивая и по–женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой, насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался:
— Русакова Петра Игнатовича помните?
— Какого Русакова?
— Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик–то пригласил, вот тут–то они и утерлись.
Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваньшина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую–перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и — с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.
— Что–то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как–то.
— Деньги будете предлагать?
— Да и деньгами неудобно.
— Точно. — Он кивнул. — Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подрос, рассказали, что принесла меня в сорок пятом фронтовичка. Сдала и — в часть: ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.
— Мамой, говоришь?
Горько усмехнулась Иваньшина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».
Через неделю после выписки вернулась в школу — с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в районо и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным, и только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадной, отнимающей разом все силы — и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать, — сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. — Надо приспосабливаться, терпеть и привыкать».
А так было всё, как бывало всегда, только Антонина Иваньшина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам–первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда: Иваньшина умела говорить «нет» со всей жестокостью и непреклонностью офицера–фронтовика. И как ни горько ей становилось порою не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, ровна и почти спокойна.
Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что сталось бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения. Если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной и — Иваньшина постепенно убедилась в этом при всей своей настороженности — искренне считавшие ее таковой.
— Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли. Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры.
— Ну что вы, Антонина Федоровна, — смущалась Алла. — Тогда нам радости убавится, понимаете?
А Олег улыбался:
— Все нормально, как в детдоме: торт, он что? Он — один на всех и все — на одного. Верно, Алка?
Была еще одна маленькая, чисто женская радость: в кои веки объявился–таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно: даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки и неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям: он не жаловал старого.
— Слушайте, Антонина Федоровна, чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.
Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваньшиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота. Даже те капризные, завидушные соседи никогда не утруждали ее топкой общей печи и никогда не жаловались, что она этой обязанностью пренебрегает. После войны раздобыть топливо — торф, дрова или уголь — было чрезвычайно сложно, и соседи сразу же разделили обязанности: Иваньшина добывает топливо, они топят печь. И так оно и было всегда, это разделение, и Олег заворчал совсем не потому, что намеревался его пересмотреть, а потому, что сама печь раздражала его своим анахронизмом. Он обожал новшества не только в науке и технике, но и в быту и очень сердился, когда приходилось тратить время на печь.