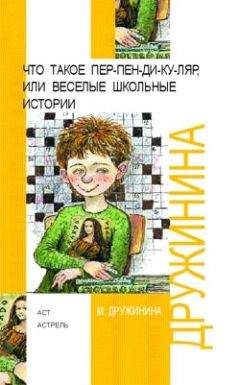Юрий Нагибин - Школьные истории, веселые и грустные (сборник)
— Железо… Холодное железо на сердце у дерева. Нет, я этих груш есть не буду.
Смеялся муж, смеялся дед Тимофей, удобно устроившись в полотняном кресле.
Хорошо было сидеть со стариками под яблоней в саду. Слушать и глядеть на них, словно в добрую осень.
По выходным приезжала Катя, хозяйничая в доме и за столом. Ставили самовар, пили чай с Катиными пирожками.
— Алеша, чего ты молчишь? — говорила Евгения Павловна. — Рассказал бы нам, что нового в Ленинграде, в университетских кругах, о чем говорят?
Катя и подруга ее, молодая учительница, поддерживали:
— Да, да… Какие моды?
— За модами вы вперед столицы успеваете, — ответила Евгения Павловна. — Силкину встречаю и Вихлянцеву, педагоги называются. В Москву они ездили. Я, как дура, обрадовалась. Что, говорю, видели? В ГУМе, отвечают, три дня в очереди за шубами стояли. Очень хорошо.
— Ну и что… — заступилась Катя. — Хотят одеться. Мы тоже скоро поедем.
— Поедешь, — погрозила ей Евгения Павловна.
Катя вскочила, смеясь, обняла бабушку.
— Бабанюшка, и тебя возьмем, очередь держать.
— Силкина уходит из школы, — сказала Катина подруга. — Секретарем в сельсовет.
— Здравствуйте, — удивился дед Тимофей. — Это еще зачем?
— Там спокойнее.
Дед Тимофей заворочался в своем кресле, хмыкнул.
— Педагог с высшим образованием пойдет бумажки подшивать. Это позор.
— Ой, Тимофей Иванович, зато спокойно. У нас только год начался, уже вторая комиссия. То из облоно, теперь комплексная проверка. Морочат голову. То не так, то не эдак. Разве не правда? — подняла она на Алексея вопрошающие глаза.
Дед Тимофей ее взгляд уловил и вздохнул огорченно.
— Эх вы, племя младое, наследники. Слезы вам утереть? Вам трудно? Да в школе всегда трудно! — воскликнул он, выпрямляясь в кресле. — И бывало в десять раз потрудней, чем сейчас. Рекомендации и прочие указания вам не нравятся? Учите, как голова разумеет, как сердце велит. У нас такое ли было? Теперь вспомнишь, не верится. Страшный сон! Метод проектов. Никаких учебников. Массы учатся на собственном опыте. А ведь мы не послушались. Да-да, мои хорошие… Потаясь, по-старому, по-доброму учили. В окошко выглядываем: не едет ли инспектор. Ведь узнают, вредительство пришьют. Но учебники старые собрали и учили так, как надо. И никому не плакались. Я и сейчас не плачусь. Иду и иду. А силенок-то уже нет, — прижмурился дед Тимофей. — Нет сил. А кому вручить? — спросил он. — Вы ведь ищете поспокойней. В почтальоны идете, в секретари, в ученые. А дети разве виноваты? В чем они виноваты, а?
Алексей понимал, что это говорится ему. Он поглядел на деда, смущенно улыбнулся, сказал:
— Жизнь такая. У каждого времени свои трудности.
— Точно, — согласился дед Тимофей и засмеялся. Он смеялся негромко, но долго, откинувшись в кресле, а потом сказал: — Вспомнил. Как-то сидим с Федором Киреевичем. Заходит биолог. Он уж уехал. Кашкин его или Машкин. Как хотите, говорит, а забор мне на пришкольном участке ремонтируйте. Вот так.
Приходил дед Прокофий, усаживался к столу, выпивал стаканчик «вишневки» и начинал, помахивая тяжелой рукой:
Ой, за Доном за рекою
Казаки гуляют,
Некаленую стрелу
За реку пущают…
Помогали ему охотно, здесь любили попеть.
Гей! Гей! Гей, гуляй!
Казаки гуляют.
Гей! Гей! Гей, гуляй!
За реку пущают.
А той порою за двором неслышно подкатила машина, и председатель колхоза Чигаров, нестарый мужик, на лицо коршуноватый, прислушался к песне, сказал шоферу:
— Гуляют старики.
Отворив ворота, они пошли через двор к яблоне и столу, и крепкие их мужские голоса подняли песню выше:
А мы бросимся на них, да,
Полетим орла-ами,
Гей! Гей! Гей, пей-гуляй!
Едут с соболями!
Здоровались лишь потом, когда допели. Здоровались, раздували самовар, привечая гостей. Председатель был из Дербеня, старинной фамилии. И сейчас один из концов хутора назывался Чигаров кут. Учился председатель в здешней школе у деда Тимофея и других старых учителей и хоть жил давно на центральной усадьбе, но родной хутор любил, часто бывал в нем.
— Вы чего Силкину переманиваете? — спросил дед Тимофей.
— Куда? — не понял председатель.
— Да в сельсовет, говорят, секретарем. Молодая, здоровая…
— Об ком горишься, Тимофей Иванович, — махнул рукой председатель. — Такая ей, видать, и цена. Они, Силкины, сроду, как бабка Марфутка говорит, «палаумственные». Пусть летит.
— Теперь не больно приходится перебирать, — вздохнул дед Тимофей.
— А мы будем! — пристукнул кулаком председатель. — Не беднись, Тимофей Иванович, Дербени не пропадут. Дорога теперь на близу. На тот год здесь будет. Об Дербенях мое сердце не болит. Вот гляди, какие у нас головушки, — кивнул он в сторону молодых. — Об другом речь. Об Лучке. Чего будем с Лучкой делать? Районо хочет закрывать. Говорит, не к рукам цимбалы. Восемь учеников.
— Им, может, и не к рукам, — сказал дед Тимофей. — А нам впору. Я, как и раньше, считаю: до последнего ученика надо держать. Иначе хутор загубим. Учеников мало, да они золотые. Михаила Скоробогатова дети. Его, что ль, с хутора выживать? Это по-умному? Косенков. Нюси-продавщицы девчонка. Не хочет районо, колхоз в силах. В силах?
— Конечно. Без Скоробогатова в Лучке нельзя. Ты прав. Я к вам, считай, по такому делу и заехал. Будем мы в том году перспективный план утверждать по развитию колхоза. Надо бы вам собраться, старым учителям, и подумать. Вот наши девять хуторов. Каких-то мы все равно будем лишаться. Прикинуть, на наш взгляд, каких. А какие остаются, об них подумать. Где учителя в годах, кем заменить. Подобрать девчонушку из хуторской фамилии, из хорошей. В общем, прикинуть на будущее.
Потом, вечером в доме, дед Тимофей вспоминал:
— Чигаров у меня после войны семилетку кончал. Хорошие ребята, а сколь досталось им. Я в сорок третьем пришел в декабре, немцев только от хутора отогнали. Числа двадцатого. Школа голая, одни стены. Без окон стоит, без дверей. А мы через десять дней уже елку делали и первого января начали учиться. Учителя и ребята все сделали. Столы, скамейки — собирали, где могли, сами ладили. Об окнах думали-думали, чем их закрыть. Вот, по-моему, Чигаров и придумал: аэродром был рядом, немцами брошенный. Там нашли фотопленку, в рулонах, с самолетов-разведчиков, «рам». Привезли ее, отмывали в корытах — и вместо стекол. Под ветром они трещат, но привыкли. Так и учились. Первого января начали и программу закончили вовремя.
Дед Тимофей никак не мог улечься. Альбомы листал-листал, нашел старую фотографию и дал Алексею.
— Вот наш коллектив, военный. Это Евгения Павловна. А вот Чигаров.
Алексей поглядел фотографию, потом на деда взглянул и сказал:
— Ты, дедуня, ложись. А то ты больно шустрый. Только поднялся.
Дед Тимофей согласно покивал головой:
— Да, да… — Но и в постели он не мог успокоиться. — Я хочу, Алеша, чтобы ты понял. Дело в человеке, в его желании, остальное приложится. Все будет. Захочешь — все будет. Вот в ту пору, в войну, начали мы ребят учить. Все нище, голо. В ту весну на Дербене вода стояла высокая. Солонцы над старицей знаешь?
— Знаю, — ответил Алексей.
— Там же никогда ничего не сажали, не растет. А нам земли надо много и свободной. Вода стояла долго. Мы решили поднять солонцы. Школой. Были у меня нитки фильдеперсовые. Я из них сетей навязал. Как вода начала спадать, я до уроков рыбу наловлю, техничкам принесу, они варят уху. Время голодное, только из-под немцев вышли. После школы ребят ведем копать. Уху похлебают, каждому по рыбке. Правда, без соли. У кого дома есть, приносят, присаливают. Поели — и копать. Копали и копали. Христа ради семена собрали. Говорю: просите у матерей сколько можно. Все пойдет, лишь бы земля не гуляла. Приносят по горсточке. Я кукурузы привез. Все засеяли. Свеклой, тыквой, арбузами, дынями и много кукурузы. И собрали такой урожай, небывалый. Ребятам выдали, учителей поддержали, да еще продали почти на двадцать тысяч. Купили на эти деньги лошадь и стали королями, — потряс кулаком дед Тимофей. — Вот так!
Алексей сидел рядом с кроватью, слушал и, понимая, что деду вредно волноваться, все же не останавливал его.
— Алеша, пойми, я это не в укор вам, молодым. Живите лучше нас. Дай бог. Но не хнычьте по мелочам. Крупнее надо, по-человечески. Особенно в нашем деле, в учительском, должна быть жертвенность. Понял? Без нее учителя нет. Вон Василий Андреевич в тридцатых годах в Крутом хуторе учительствовал. Голодал, но детей не бросил. Чует, что совсем плохо, на день-другой прибредет к отцу с матерью и назад. Дети там, понял? Не зарплата. Не та пачка махры, что платили. Или фунт синьки… Или как нам после войны. Получишь четыреста рублей — купишь кусок мыла. Все. А кормишься от земли, от своих рук. А учительство не бросили. Потому что это дети… Радость. Счастье нашей работы — в них. Мы — счастливые люди, это я точно знаю сейчас. Счастливые…