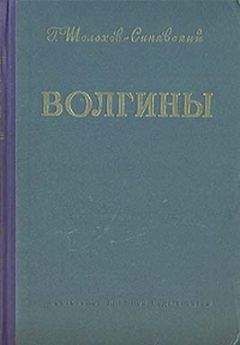Герогий Шолохов-Синявский - Горький мед
Изредка промчится, сверкая огнями, курьерский поезд, медленно протянет, лязгая буферами и скрипя колесами, грузовой, замрет на четверть, а то и на полчаса на боковом пути. Ввалится в комнату к дежурному по станции кондукторская бригада, воняя керосиновыми фонарями и стуча смазными сапогами, посидит на своих железных сундучках до прибытия поезда на соседнюю станцию или пока паровоз наберет воды и, получив путевку, вновь неторопливо поднимет свои сундучки и уйдет к поезду. Долгий сверчок в зычную турчелку главного кондуктора, не менее тягучий свисток машиниста, звяканье железных сцеплений — и поезд так же лениво снова трогается в путь.
И опять тишина, заунывный звон проводов, шелест тополей и спор лягушек. Это летом. А зимой — вой метели, шорох снежинок или скрип спрессованного ядреным морозом наста под сапогами прошедшего по перрону жандарма или станционного сторожа.
Неторопливая, усыпляющая жизнь. Как глубоко врезалась она в память. Она засасывала людей, как болото, и в то же время не лишена была своеобразной прелести. Особенно нравились мне летние вечера, когда мглистые, насыщенные дневной пылью сумерки затягивали уходящие в обе стороны рельсы и они исчезали вдали, точно зарываясь в степные, травянистые просторы. Зеленые огоньки стрелок и семафоров мерцали издали так же загадочно и зазывно, как ивановские светляки. Они разжигали мою мечтательность и тоску по неведомым краям.
Как сейчас, вижу станционного сторожа, пропахшего керосином, зажигающего по вечерам два ярких фонаря на высоких столбах на перроне.
По субботам и воскресеньям на станцию из хутора сходились пестро одетые девушки и устраивали гулянье, парами прохаживались по перрону. Девушек было больше, чем парней — всех лучших кавалеров давно подобрала война. Подходил вечерний поезд. Из вагонов высыпали пассажиры, смешивались с гуляющими, и станция становилась многолюдной и оживленной.
Иногда медленно подползал длинный санитарный состав. От него пахло аптекой и кухней. На вагонах получше с еще не закрашенным трафаретом I и II класса, белела табличка — «Для господ офицеров», а на тех, что похуже, третьеклассных, — «Для нижних чинов». Окна изнутри затянуты марлей; изредка выглянет из двери строгое, как у монахини, лицо сестры милосердия с алым крестом на косынке и вновь скроется.
И мирное впечатление от тихого захолустья мигом исчезало: вокруг веяло тлетворным дыханием войны. Где-то за тысячу верст еще стреляли пушки, лилась кровь…
Мне вспоминался мартовский солнечный полдень, необычный воинский эшелон на соседнем разъезде, трубные победные звуки духового оркестра, кумачовые полотнища — «Долой войну! Да здравствует мир!», праздничное сияние на лицах будто уравнявшихся в званиях солдат и офицеров… Когда это было? Да и было ли?.. С того дня уже прошло полгода…
Санитарный поезд уходил тихо и осторожно, и на станции вновь слышался смех гуляющих девушек.
…Шел август. Все скучнее лопотали жухлой листвой станционные тополя, в хуторе пахло арбузами и яблоками — надвигалась южная, сухая осень.
Я дежурил вместе и наравне со штатными телеграфистами, трещал на аппарате, как они. Мне сказали: как только я выдержу экзамен на кандидата телеграфа, то сразу же получу право на ношение казенной телеграфной формы — коричневой тужурки и фуражки с канареечно-желтыми кантами. Редко какая хуторская девушка могла устоять перед таким внешним великолепием, и я втайне уже лелеял мечту поскорее получить право на ношение форменного кителя.
Но что-то менялось на железной дороге — в воздухе носилось нечто неуловимо-тревожное, как гарь далекого пожара.
Теперь, кроме сбрасываемых с поездов газет, к нам текли многословные циркуляры, а с ними самые различные новости. Циркуляры Министерства путей сообщения передавались по телеграфу из управления дороги; я научился выуживать из них многое. За распоряжениями о перевозках войск и грузов, за обычными телеграммами о розыске багажа угадывались неразбериха и разлад в работающей со скрипом транспортной машине.
В уши проникали пока еще не ясные для меня слова: «стачка», «стачком», «профсоюз»… Телеграф принес первую весть о том, что где-то на большом железнодорожном узле забастовали деповские рабочие, не выпустили на линию дюжину паровозов. Потом затрещали аппараты о «плехановской надбавке» жалованья; много дней этот циркуляр не сходил с уст всех служащих станции. А в конце лета назойливой предосенней мухой зажужжало в уши новое непонятное слово — «Викжель». Посыпались многословные телеграммы, подписанные этим вычурным словом, призывающие железнодорожников к дисциплине и соблюдению полного порядка.
Кто-то свыше уговаривал железнодорожников не подчиняться никаким призывам, сидеть на месте, а главное — не лезть ни в какие стачки и партии, кроме партии меньшевиков и эсеров, и поддерживать единственную власть — власть Временного правительства.
Новые слова, политические термины и циркуляры растолковывал мне дежурный по станции Серёга Хоменко, книгочий, цитировавший на память едкие изречения многих неизвестных мне писателей и философов.
В то время Хоменко казался мне образцом начитанности и мудрости, превзошедшим даже такого книжного червя, как Иван Каханов. Он нахватался знаний из печатных залежей местной хуторской библиотеки и проезжавшего по линии один раз в месяц вагона-библиотеки, но вряд ли переварил их.
Имена неизвестных мне Джона Локка, Шопенгауэра, Гегеля, Канта, Фейербаха, Прудона, Карла Маркса, Бакунина, Ницше смешались в его голове. Он сыпал ими по всякому поводу, часто ради простого щегольства. Теперь мне трудно вспомнить, каких убеждений придерживался Серёга Хоменко. Мысли и афоризмы, казалось, привлекали его сами по себе. Он старался поразить ими слушателей, и чем необычнее, цветистее были изречения, тем больше они восхищали его.
Серёга Хоменко был несомненно талантлив, как и многие, оставшиеся безвестными, маленькие люди нашей среды. Голова его держала в памяти и вмещала все, как бездонный ящик.
Посмеиваясь, Серёгу называли то «филозопом», то «мудрецом», то «Мартыном Задекой», и сама внешность его как бы подтверждала эти прозвища: он был худ, как голодающий индус, сутул, долговяз, во впадинах его щек, как в углублениях раковин, всегда болезненно пылали изжелта-багровые пятна. Аскетическую худобу и резкую очерченность лица нашего философа смягчали только светло-карие, всегда смеющиеся, искрящиеся умом глаза.
Застарелый недуг подтачивал Хоменко, как червь дерево. Дышал Сергей хрипло, со свистом, но никогда не жаловался на свою болезнь, даже сомнительно было, лечился ли он, а все улыбался уже маячившей впереди смерти, с трудом втягивая дырявыми легкими воздух, изрекал:
— Из всех болезней самая опасная — невежество.
Из писателей Серёга больше всего любил Шекспира и читал наизусть длинные монологи из трагедий, прерывая чтение неожиданными восклицаниями вроде:
— «О, женщины, женщины, ничтожество вам имя! Ваши слезы — вода, ваше сердце — камень!»
О женщинах он говорил с горечью и сожалением, а иногда и со злостью, словно о какой-то непостижимо опасной тайне. Видно, какая-то любовная история больно ранила его душу еще в молодости.
Как-то раз, когда в аппаратной комнате слишком вольно заговорили о женщинах, он поморщился и, обернувшись ко мне, сказал:
— А ты не слушай эту галиматью. Ты принимай сосуд чистым, каким он должен быть. А вы-то распустили языки, — накинулся он на рассказчиков. — Пошли вон!
Вторым членом нашей станционной семьи был старший телеграфист Ананий Акимович, наставник многих учеников. Тихий, вежливый, он никогда не повышал голоса, не раздражался, не произносил лишних слов. Показав вначале, как держать между пальцами ключ аппарата, Анатолий Акимович несколько дней не подходил ко мне, а лишь издали следил за моей рукой, прислушиваясь к размеренному постукиванию ключа. Потом каждое утро он проверял, чего я достиг. Заметив неправильное положение руки или излишнюю торопливость, спокойно поправлял.
А ведь в те времена чаще попадались такие наставники, что бивали и по рукам и по затылку или превращали учеников в мальчиков на побегушках, в домашних даровых работников. Ананий Акимович не позволял этого ни себе, ни другим, что и приводило к добрым результатам: все ученики за три-четыре месяца усваивали профессию телеграфиста и, выдержав с успехом экзамены, удостаивались звания кандидатов телеграфа. Но это было только громкое звание: телеграфных мальчишек, или, как их тогда в шутку называли, «коников», гоняли по всем линейным станциям замещать штатных — больных или отпускных.
К тому времени, когда я пришел учиться, на станции уже было несколько телеграфных учеников-казачат и среди них раньше меня закончивший обучение мой одноклассник по «казачьей бурсе» Афоня Шилкин.