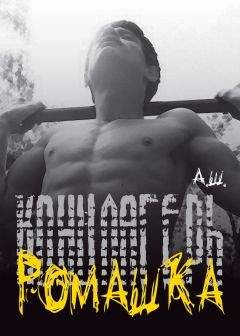Михаил Шолохов - Лазоревая степь (рассказы)
— А теперь ты где же устроился?
— Нигде.
— Живешь-то где?
— Жил до этого в Даниловке, отец помер, мать побирается и мне жить не при чем…
— Што думаешь делать?
— Сам не знаю, — нерешительно ответил Федор, — работенку бы какую-нибудь…
— Об этом не горюй, работу найдем.
— Найдем!
— Живи покуда у меня, — предложил один.
Расспросив еще кой-какие подробности, секретарь, по фамилии Рыбников, сказал Федору:
— Вот што, товарищ, подавай-ка ты в нарсуд заявление, а мы от ячейки поддержим. Кто-нибудь из ребят сходит с тобой к бывшему твоему хозяину, заберете твое барахло и будешь временно жить у Егора, вот у этого парня, — указал он пальцем на одного. — А про суд и говорить нечего! Батрацкие копейки не пропадают! Его еще пристебнут к ответственности за то, што эксплоатировал тебя, не заключив в батрачкоме договор.
Все кучей пошли к выходу. Федор шел, не чувствуя усталости. Бесконечно родными и близкими казались ему эти грубые на вид, загорелые ребята. Ему хотелось хоть чем-нибудь выразить им свою благодарность, но, стыдясь этого чувства, Федор шагал молча, лишь изредка поглядывая с тихой улыбкой на худощавое горбоносое лицо Егора. Уже шагая по сенцам Егоровой хаты, снова припомнил слова „кровная родня“ и улыбнулся, припоминая пьяненького зубаря; так метко определил он этим названием все. Вот именно кровная родня и не что иное.
„Федор комсомолится“Егор жил с матерью и с маленькой сестренкой. Мать Егора приняла Федора, как родного: за обедом заботливо его угощала, стирала бельишко и в обращении с ним ничем не отличала от родного сына.
Первое время Федор помогал Егору в хозяйстве: вместе пахали под зябь, ездили на порубку, убирали скотину и в свободное время заново оплели двор высоким красноталом — хворостом.
Незаметно пришла осень. Стояла сухая безветренная погода. Утрами слегка придавливал морозец; тополь во дворе с каждым днем все больше терял пожелтевшие листья; догола растелешились сады, и далекий лес за рекою, на горизонте, напоминал небритую щетину на щеках хворого человека.
По вечерам Федор вместе с Егором уходили в клуб. Цепко прислушивался Федор к новым, неведомым ему раньше, мыслям и словам, все вбирал жадно-пытливым умом, что слышал на длинных субботних политчитках и беседах с агрономом о таком волнующе-близком деле, как сельское хозяйство. Но все же ему трудно было угоняться за остальными ребятами; те вызубрили политграмоту назубок, читали газеты, целый год слушали беседы местного агронома и на каждый вопрос могли ответить толково и ясно (секретарь Рыбников, вдавив в веснущатые щеки кулаки, читал даже Маркса), а Федор — парень не шибко грамотный.
Да и вообще-то одно дело — держать за шершавые поручни плуг и чувствовать во время работы под рукой его горячее живое трепетанье, а совсем другое дело — держать в руке такую хрупкую и нежную штуку, как карандаш; во-первых, пальцы дрожат, предплечье немеет, а во-вторых, и сломать недолго этот самый зловредный карандаш. К первому делу руки Федора были гораздо больше приноровлены; ведь отец, когда мастерил Федора, не думал, что выйдет из него такой письменный парень, а потому и руки приварил ему хлеборобские, в кости широкие, волосато-нескладные, но уж крепости чугунной. Все же понемногу напитывался Федор книжной мудростью: кое-как, вкривь и вкось, как сани-развалки по ухабистой путине, мог он толковать о том, что такое „класс“ и „партия“, и какие задачи преследуют большевики, и какая разница между большевиками и меньшевиками.
Были его слова, как и походка, неуклюжие, обрубистые, но ребята относились к ним с подобающей серьезностью; если и смеялись изредка, то в смехе их не было обидного. Федор это чувствовал и не обижался.
В декабре, как-то за день до общего собрания, сказал Рыбников Федору:
— Ты вот што, подавай-ка нам заявление. Мы тебя примем, райком утвердит, а тогда уж направишься к весне в работники. Сейчас проводится кампания, чтобы вовлечь в союз возможно большее количество батрацкой молодежи. Наша ячейка раньше дремала, потому што секретарем был сын кулака, и много членов были негодные… разложились, как падаль в жару… Мы их вычистили за месяц до твоего прихода, а теперь надо работать. Надо поднять дубовскую ячейку в глазах народа. Раньше наши комсомольцы только и знали, што самогон глушить да на игрищах девкам за пазухи лазить, а теперь шабаш! Так качнем работу, штоб по всей Донской области гремела!.. Как наймешься — мы тебе задание дадим, и ты всех батраков притяни к ячейке. Понял? мы все рассыпемся по хуторам.
— А как ты думаешь могу я соответствовать членом? Я ить не дюже шибко по книжкам…
— Брось чудить! Чего не знаешь — за зиму одолеешь. Мы сами не очень тоже… Райком на нас начхать хотел; ни пособий, ни одного дельного совета, одни предписания. Мы, брат, сами до всего своими силами достигаем. Так-то!
Слова Рыбникова о вовлечении в союз батрацкой молодежи окрестных хуторов и поселков упали Федору в разум, как зерна пшеницы в богатый чернозем. Вспомнил он свое житье у Захара Денисовича и загорелся нетерпением работать. В этот же вечер накорябал заявление, но о причине вступления в комсомол упомянул не так, как его учил Егор. Тот говорил: пиши, мол, „желаю получить политическое воспитание“, а Федор подумал малость, да так-таки черным по белому, без запятых и точек, и написал:
„Желаю вступить как я рабочий штоп очень навостриться и завлечь всех рабочих батраков в комсамол так как комсамол батракам заместо кровной родни“.
Рыбников прочитал и поморщился.
— Оно-то так, да уж больно ты нагородил… Ну да ладно, продерет!..
Собрание началось поздно вечером. В клубе заколыхался разноголосый шум. Выбрали президиум собрания, Рыбников сделал доклад о международном положении, потом перешли к делам текущим.
Федор с замиранием сердца ждал, когда прочтут его заявление.
Наконец-то Рыбников, покашливая и обводя собравшихся глазами, громко сказал:
— Поступило заявление от известного вам Федора Бойцова.
Он медленно прочитал заявление и, разглаживая на столе бумагу, спросил:
— Кто выскажется „за“ и „против“?
Егор поднялся с задней скамьи и, поводя горбатым носом, заговорил:
— Чево там говорить! Парень из батраков, сын бедного мужика из Даниловки. Теперь политически разбирается, может соответствовать… Чево там еще, принять!..
— Кто против?
Никого не нашлось. Приступили к голосованию. Руки поднялись густым частоколом. „За“ — двадцать шесть — вся ячейка. Подсчитывая голоса, Рыбников с улыбкой глянул на бледно-счастливое лицо Федора.
— Продрал единогласно!.
Федор с трудом досидел до конца собрания. Он плохо понимал, о чем говорили вокруг него. Рыбников горячо нападал на Ерофея Чернова, осуждая за участие в игрищах, тот оправдывался, ссылаясь на остальных ребят. До Федора словно сквозь глухую стену долетали их голоса, а в уме своей дорогой переплетаясь шли мысли: „Теперь я в ихней семье свой, а то все не то… как пасынок… Вот она моя кровная родня, с ними хорошо плечо к плечу, стеной…“
Чей-то голос громко зыкнул:
— Цыцьте!.. Собрание считаю закрытым. Ванюха, ты перепишешь протокол?…
Загремели висячим замком, к выходу пошли, на ходу прикуривая и ежась от режущего холода, проникавшего с надворья в коридор. Федор шел вместе с Егором и Рыбниковым. По обмерзшим ступенькам сошли с крыльца и сразу ткнулись в здоровенный сугроб; намело ветром за время собрания, Егор кряхтя полез через сугроб первый, Федор за ним. На перекрестке Рыбников, прощаясь с Федором, крепко стиснул ему иззябшую руку, сказал, близко заглядывая в глаза:
— Смотри, Федя, не подведи! На тебя у нас надёжа. Теперь ты закомсомолился и на тебе больше лежит ответственности за свои поступки, чем на беспартийном парне. Ну, да ты знаешь. Прощай, друг!
Федор молча потряс ему руку, хотел ответить, но горло перехватила судорога. Молча пошел догонять ушагавшего вперед Егора и, чувствуя в горле все тот же вяжуще-радостный комок слез, шептал про себя:
— Обабился я… раскис… Надо потверже, не махонький, а вот не могу!.. Счастье навалилось… Давно ли думал, што на земле одно горе ходит, и все люди чужие?..
СудУтром на следующий день Федора позвали в исполком.
— Повестка в суд. Распишись, — сказал секретарь. Федор расписался и, отойдя к окну, прочитал повестку. Вызывают на 21 число. Федор глянул на стенной календарь и растерялся: под портретом Ильича краснела цифра 20.
Быстро направился домой и стал собираться.
— Ты куда это? — спросил Егор.
В станицу, на суд с хозяином. Получил нынче повестку, вызывают к завтрему… Вот дела! — Успею я дойтить?
Егор глянул в окошко, замазанное белой изморозью, словно тестом, нашел в голубеющем небе желтый пятачок солнца, раздумывая проговорил: