Николай Батурин - Король Королевской избушки
— Так оно и есть… И, наверное, иначе быть не может… Человеческая душа весьма спорная вещь, — заключил он. — А если человеческая душа вещь спорная, то и сам человек спорен.
Закончив работу, он разложил натянутые на правилки шкурки на сушильных жердях; беличьи шкурки повесил на деревянные клинья, торчащие из стен. Черная, потревоженная во сне, вслепую залаяла на шкурки.
— Ого, — посмотрел он на собаку с удивлением. — Это уже сверхусердие… А может, ты сверхсобака?.. Тогда почему бы тебе не поохотиться за тенями? Получим две шкурки сразу — одну с соболя, другую с тени… Ну-ну, без сентиментальностей… Марш под нары!
Отмывая кровь на руках, он взглянул на спальный мешок, но не стал его разворачивать, а подошел к рабочему столику. Вытащил из-под него четыре калила и сунул их в тлеющие угли… Времени для сна оставалось немного, но он привык довольствоваться парой часов короткого охотничьего сна, а порой и вовсе не спать. Отоспаться за бессонные ночи и даже впрок он всегда мог в метель.
— А то, выходит, времени нет, а спать приходится, — сказал он кому-то, находившемуся тут же, неподалеку… Потом снял с жерди берестяной бурак, покрутил его в руках, прощупал все стыки, прошитые полосками сыромятины, не лопнула ли где береста. Затем сел на чурбак перед печкой и, поставив бурак перед собой, зажал его коленями. — Сделаем из тебя писаного красавца. А то какая от тебя польза, от некрасивого, — объяснил он бураку. Смочил водой бледно-желтую поверхность бересты, чтобы не загоралась, и вытащил из углей первое калило… Вскоре в избушке стало угарно, из глаз у него потекли слезы, поэтому смачивать бересту уже почти не было нужды; деревянные ручки у каждого калила наполовину обуглились, так что узоры украшали поочередно то бурак, то его пальцы… — Не нашел в тайге дерева новые ручки выточить — поищи тогда материала для новых рук, — сказал он этому растяпе, а сам все дул себе на пальцы…
Калила поочередно ныряли в огонь, прихотливые узоры ложились на желтую поверхность бересты. Это не были изображения птиц, рыб или зверей, уместные на охотничьем бураке. Это было совсем не то.
— Что там ни говори, а выжигание — большое искусство, — пробурчал он с усмешкой. — Разве только прожигание жизни — еще большее. — Он выхватил из огня очередное калило и прочертил по шипящей бересте ряд зигзагов. Синевато-зеленые вспышки, вскипавшие под кончиком калила, тут же гасли. Крышка и часть стенки были уже расписаны, но никакого орнамента пока не вырисовывалось. — Старый эвенк скажет, это все равно что муравьиная тропа, никуда не ведет… Обязательно так и скажет. И еще добавит, если дороги нет, надо хоть направление знать… Направление? — сказал он как бы в ответ эвенку. — А что, вот выберешь направление и пойдешь в обратную сторону — уж куда-нибудь обязательно выйдешь…
Пока железо накалялось, он разглядывал бурак, отставив его на вытянутую руку. Дальше смотришь — больше видишь. Если, конечно, смотреть своими, а не чужими глазами. И он тут же возразил возможному критику:
— Самые красивые узоры не те, что видны простым глазом, а те, о которых догадываешься. Линии должны быть тонкие, местами обрывающиеся, чтобы каждый мог соединить их в зависимости от того, как он видит. Да, — продолжал он, гася вспыхнувшую бересту, — линии должны быть точные, тонкие и не слишком глубокие… Но самые красивые узоры — это те, которые мы ухитримся не выжечь…
Пыхтя в желтом дыму и роняя слезы, он склонился над бураком и калилами, точно алхимик над тиглем и ретортой, простодушно надеясь, что эликсир, выделенный из его уменья и восторга, может кому-то пригодиться. «Как бы там ни было, я все равно буду спорить с эвенком, что узорчатый бурак, хоть какой полный, носить куда легче… Красивая ноша — легкая ноша». Он взгрустнул немного, вспомнив друга эвенка, с которым можно было долго молчать и спорить до бесконечности, так что оба оставались правы. Но где его взять, эвенка тут не было. «Те верные, те преданные, которые всегда с нами, — это мы сами».
Бурак весь покрылся узорами. Беспорядочные, без начала, без хоть сколько-нибудь определенного конца, они явно свидетельствовали, что мастер и его работа действительно одно и то же.
Он встал с чурбака, размялся немного, принес с рабочего стола бутылку олифы и кусок наждачной бумаги. Очистил узор от окалины, сдул коричневую пыль, пропитал весь бурак олифой. Он стал желтый, красивый, во всяком случае вполне оправдывал столь долгую работу.
Он подвесил бурак обратно на жердь дожидаться своего времени — оно и у вещей может наступить раньше срока. Потом еще раз вымыл руки и проворчал:
— Мой их сколько хочешь, а кто в любой момент поручится, что его руки чистые?.. — Потом крикнул собак: — Эй вы, зубастые! Вон дерево на дворе еще не обмочено! — и открыл дверь. — Ишь, барская порода… Может, его сюда принести?! — прикрикнул он на Рыжую, которая продолжала спать под нарами и делала вид, что это относится ко всем лайкам, за исключением рыжих. — И рыжих тоже касается! — уточнил охотник. Он никогда не оставлял собак в избушке дольше пары часов, чтобы не привыкали к теплу. Хорошая охотничья собака должна оставаться диким животным. — Это вам на пользу, — сказал он собакам вдогонку. — Чувства острее будут, да и сонная болезнь не одолеет…
Оставив дверь открытой, он разогнал дым брезентовой курткой. Но острый запах дегтя все еще чувствовался в избушке, пристал к одежде.
— Завтра к зверю и против ветра не подходи, — сказал он, развешивая одежду во дворе, чтобы проветрилась.
Он с грохотом захлопнул дверь избушки и повернул навертыш. Затем подкинул в печку несколько смолистых поленьев, сверху положил пару лиственничных кругляшков посырее, чтобы огонь не так скоро погас, и задул лампу. Его сразу одолел сон, точно раненого, едва дотянувшего до лазарета. Уже в полусне он развернул мешок. Погрузился в прохладу мешка, будто в запоздалые объятия, и сказал:
— Ну вот… Теперь можно забыть на несколько часов, где ты и кто ты. — Застегнул мешок до половины и достал с полки «Север». Раскурил папиросу, мысленно окинул весь прошедший день и отложил в сторону — старая обувь может еще пригодиться, если выяснится, что новая жмет. Он попыхивал папиросой и слушал ночные голоса, те, что рождались в избушке, и те, что доносились снаружи. Собаки изредка взлаивали на ночь: на день они лаяли гораздо чаще. Время от времени потрескивали на морозе деревья, точно выстрелы навыворот.
В избушке слышалось шипенье горящих дров, будто попыхивание паровоза на станции, да щебет мышей под полом, будто чириканье воробьев на перроне.
Он сделал последнюю, самую глубокую затяжку, так что окурок обжег ему язык; табачная фабрика далеко, приходилось экономить. Он бросил окурок под плиту и повернулся на бок, лицом к окну, где на снегу отражался лунный свет, хотя самой луны не было.
— Это как будто человек здесь, хотя сам он далеко, — сонно бормотал он. Теперь он уже ничего не слышал, только слушал. В избушке, вокруг нее и над ней, среди дремучих елей, стояла такая тишина, какая бывает на ярмарке, где торгуют снами. Или какая стояла наяву — в избушке, вокруг нее и над ней, среди дремучих елей. В его угасающем сознании мелькнули ушедшие число и день. — Среда следом за вторником все-таки будущее, — пробормотал он уже во сне.
На рассвете его разбудило повизгивание собак и щебет мышей. Он лежал все в том же положении, что и вчера, лицом к окну. Открыв глаза, он увидел в запотевшем окне две собачьи морды — деловую черную и хитроватую рыжую. По их виду можно было догадаться, что хвосты у них за ночь хорошо отдохнули.
Он еще повалялся немного в полусне, к которому уже примешивались заботы начинавшегося дня. Дрожь, как от холода, помогла ему стряхнуть остатки сна. Он расстегнул мешок и выбрался из него на холодный пол. Первым делом он зажег лампу, потом растопил печку, которая тут же стала давать тепло. Сумрачное нутро избушки разгорелось; колеблющиеся блики от лампы и отсветы пламени соединились на стене, будто в пантомиме.
Он сунул босые ноги в унты, нахлобучил шапку, словно хотел натянуть ее на самые плечи. Когда он толкнул дверь, мимо него проскочили две заиндевевшие взбудораженные псины. Они разом прыгнули на него, пытаясь своими длинными бледно-розовыми языками дотянуться до лица…
— У вас всё нежности… Пока лимит не кончится. Сколько-то «здрасьте», сколько-то «спокойной ночи» — и всё, больше не отпущено, — унимал он собак. Не дослушав его, они улеглись поближе к печке и принялись скусывать с лап ледяной нарост. — Похоже, утреннюю пробежку вы уже сделали, а?.. Ну и как, хорош сегодня снег? — говорил он, возвращаясь со двора с охапкой проветренной одежды.
Он развесил все вокруг печки, чтобы согрелось; одежда пахла морозом, снегом и озоном. И от этой смеси запахов его разом пронзила тоска по лесу…

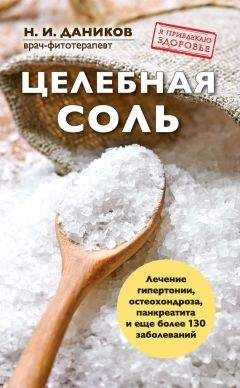
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

