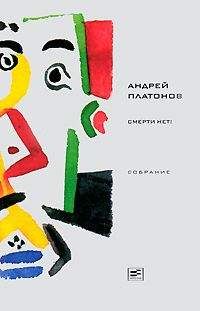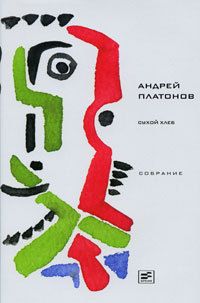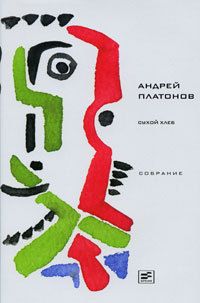Андрей Платонов - Том 1. Усомнившийся Макар
Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как он думает — одна область лучше четырех губерний?
К Федору Федоровичу изредка приходил гармонист. Федор Федорович не знал тогда, чем получше угостить гармониста, заслушивался его и волновался от музыки.
— Рабочий человек, — говаривал Федор Федорович, — должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нарочно нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужнее всего.
И однажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:
— Вот видишь, чем надо людей смазывать. А вы говорите — организация. Она, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравоучительность из нас куда-то пропала. В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, она не оскудела, а ее объели, и объедали лет сто подряд. Областью тут не поможешь.
Слушая гармонию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говорил:
— Сердечность у нас пропала, необходимость оскудела. Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь, — все равно.
Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. Живого его языка упомнить невозможно, примерно он таков:
— Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет. — Ну, кого послать, скажем, в организацию? — посылаем его, нам он в работе не нужен, работать он не научился, а таких, как я — я это по душам говорю, положа руку на сердце, — таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает?! Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочих товарищеских связей с мастеровыми. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много два, по всем документам — он рабочий, и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт и соворганизации. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не сменяю, потому что не уважаю ни имущества, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться. А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека…
Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке.
Однажды он играл шимми. Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого танца шелка-чулочных ног и бесполых тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполых ног, как искреннюю тонкую пьесу.
По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:
— Все можно изгадить, — сказал он. — Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю, любое искусство сделано по модели любви. Ну а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви — ничего необходимее нет.
Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:
— Федя, заткни ты этого хрипатого дьявола, мы не к обедне пришли, а к тебе.
Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорогостоящи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них вместо горячего клея употребляется остуженный кисель либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравоучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.
— Не понимаешь? — сказал Филипп Павлович. — Поп, — ну, какой он нам нынче враг? — соринка? Лавочник — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый! Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.
— А еще вот — грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал, — вставил Федор Федорович.
— Во-во, и он, — подтвердил Филипп Павлович, — и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.
Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:
— Ты вот что объясни нам, — сказал Филипп Павлович. — Почему это все в массы швыряют — прямо как кирпичи летят. Книгу, пишут, — в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже, значит, в массы, то есть к нам, к одному месту, дьячка этого, — он кивнул на подоконник, — тоже в массы, критику — опять давай в массы. От таких швырков голова отлетит.
— Радио же вон дошвырнули?
— Радио — это да, только никто не швырял, я сам сделал на свои деньги. А вот другие вещи, на которые государство деньги тратит, до нас не долетают, на воздухе от трения сгорают, вроде как звезды, небесные кирпичи.
Федор Федорович подтвердил:
— Зашвыряли массы, прожевать некогда.
Филипп Павлович закончил свою мысль: спеша опередить Федора Федоровича:
— А ведь это только сверху кажется, — крикнул он, — только сверху видать, что внизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого.
Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федорович рассказал нам странный свой сон. Сон этот волновал Федора Федоровича, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что он наяву видит, как под колесами поезда проскакивают границы губернии, области, РСФСР, уездов, райвиков, сельсоветов, районов тяготения к ссыппунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы и ликбезов, профсоюзные линии, разграничивающие скрещивающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, у-ов, губ-ов, обл-ов, разных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область, Федор Федорович видел тысячи линий: жирных, тонких и пунктирных, которые легли на землю так, что из-за них не было видно травы. Федор Федорович был удивлен своим сном.
— Поди ж ты! — говорил он. — Ведь ежели издать генеральную карту организационного устройства области, чтобы не упустить чего-либо из памяти, чтобы любой ходок и ездок мог бы свободно узнать, под чьим непосредственным воздействием он находится в данную минуту своего жизненного существования, — так такую карту и издать невозможно, бумажный планшет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самою область. Иначе невозможно будет разместить все линии организационного размежевания, невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции… И поди ж ты! — видел я еще во сне архивариуса, — он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку, — он сидит на областном планшете, в щели, сукин сын, — в государственной, заметь, щели, — и чувствует себя спасителем революции!..
Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем чтобы назавтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.
— Федор Федорович, — спросили мы последний раз, выполняя наше задание. — Что же, нужна вам область или нет?
— Не обязательно, — ответил Федор Федорович. — Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.