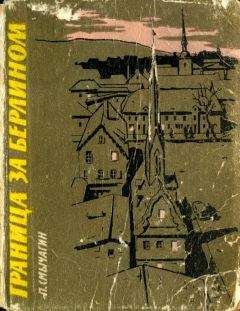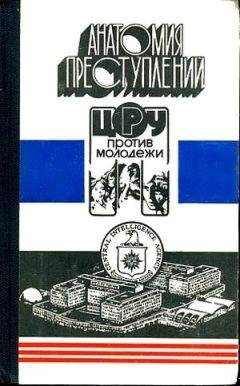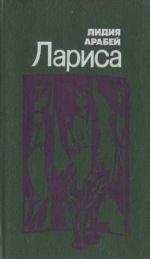Николай Никонов - Мой рабочий одиннадцатый
— А он, наверное, где-нибудь тут, возле общаги болтается, — сказал парень, не отрываясь от чертежа. — Он музыку не любит, а у нас слышите? В субботу особенно, как с ума сойдут. У всех проигрыватели, «маги» всякие, транзисторы.
— Не нравится?
— А-а... Мне наплевать... На меня не действует. Я скоро подамся отсюда. Диплом кончаю. Конечно, чего хорошего... Дичь...
— Ну и ад же у вас, — сказал я вахтерше, которая, видимо, уже спровадила пьяницу спать и сидела у доски с ключами.
— А что? — спросила она, щурясь.
— Да где же тишина?
— Ишь, парень, чего захотел... В общежитии-то? Пущай веселятся, раз им весело.
— Кому весело, а кому и нет. И поспать хочется, и почитать...
— А это уж не мое дело. Это с комендантшей говори. Я тут ни при чем... — враждебно ответила тетка.
Алябьева встретил неожиданно в переулке, у выхода к трамвайной линии. Было сумрачно, однако я сразу узнал его. Круто, по-мужски привалясь плечом к столбу, он стоял и курил.
— Алябьев? — окликнул я.
— А? Ой! Здрасте.
— Ты что же это? А? С ума сошел? В последней четверти... — с места в карьер взял я.
Алябьев молчал, потом кинул сигарету и придавил носком ботинка.
— Да. Бросил... Устаю, знаете... А потом — посчитал: ни к чему. Подручным-то я и так перебьюсь. В сталевары не собираюсь...
— Расписаться умею — и ладно? Дважды два — четыре. Алябьев! Нет, ты все-таки с ума сошел. Подумай, еще год — и среднее образование. Аттестат зрелости. Подумай!
— А там опять учись, учись... Насядут в комитете. Слушайте, Владимир Иваныч, а может, я просто не хочу? Все равно всего не узнаешь. Все инженерами станут — кто будет шихту подгребать? На хлеб-то я себе всегда заработаю... — Алябьев усмехнулся.
— И все-таки не понимаю, скрываешь ты что-то.
Вздох, молчание...
— Что ж мне, к начальнику цеха? Жаловаться, значит?
Опять вздох.
— Приду. Ладно. А вообще-то, если честно, не хочется. Устал. Уехать я надумал.
— Куда? Зачем? Куда?
— А так. Поеду, и всё... Союз большой. Заводы везде... Может, на Украину, может, в Сибирь подамся...
«Что-то тут не так, не так что-то. Не могу найти ключ», — думал я и переменил тему:
— Слыхал, что ты от музыки спасаешься, уходишь из общежития.
Он вымученно улыбнулся, поглядел:
— Может, не поверите? Я ее терпеть не могу, ненавижу. Она мне как нож какой. После цеха, после гула тишины хочется, лечь, полежать просто в тишине, уснуть немного, а придешь — сами, наверное, видели. Там — гудят, там — галдят. Включают на всю катушку. Попробуй сказать — орут. Комендантша отмахивается. Ей что — она тут не живет. Вот я и привык субботу, воскресенье, когда выходные совпадают, уходить... А смешно ведь, — добавил он. — Вот мой предок, родственник композитором был. Алябьев. Слыхали? Романс «Соловей»...
— Да неужели?
— Ага... А почему я музыку ненавижу? Потому что от нее деваться некуда, хоть в лес беги, да только и туда теперь транзистор тащат. Я, знаете, по транзистору, по магнитофону человека теперь определяю. Да. Как идет с этой включенной бандурой по улице — не иначе, жестокий человек. Ему лишь бы свою душу тешить, на других наплевать. Уеду я, — закончил он и, поглядев на меня, добавил: — А в школу приду. Не беспокойтесь. Раз обещал...
И он действительно пришел. Но на уроках сидел гостем. Не сегодня-завтра опять исчезнет и уже навсегда.
Во всем облике Алябьева было по-прежнему непонятное мне полное безразличие пополам с глубокой озабоченностью и словно бы грустью. В перемены он даже курить забывал, и, заглянув в класс, я видел его одиноко сидящим за партой или стоящим у окна.
«Что-то с ним стряслось или болеет», — думал я, но вступать во вторичную беседу не решался. Когда человек не отвечает искренностью, это выглядит как допрос.
Я пытался успокоить себя разными соображениями такого рода, что, во-первых, Алябьев пришел, во-вторых, я, может быть, просто все преувеличиваю, но все-таки судьба Алябьева тревожила меня еще и косвенным отношением к собственной личности. Видимо, не нашел я пути к своим подопечным, к своим ученикам, раз они чураются меня, не доверяют, стесняются. Значит... Мало ли что «значит»! В конце концов, я не должен быть посвященным во все тайны каждого, мало ли таких личных тайн, которые и не открываются никому именно из-за того, что они личные. А мы уж очень любим влезать в чужие тайны, копаться в них... Так убеждал я себя, все-таки ощущая некую тревогу, наверное, подобную тревоге курицы-наседки, у которой бойкий здоровый цыпленок убежал куда-то за чужие изгороди и вот она слышит его голос и ничем не может помочь, кроме кудахтанья.
«Попробую узнать от других, — решил я как-то вдруг. — Ведь если справедлива восточная мудрость, что личные тайны узнают на базаре, то класс должен знать о беде Алябьева, а раз знает класс — знает и староста».
— Чуркина! Останьтесь после уроков! — приказал я, встретив ее на перемене. Ничего не стал объяснять, хотя понял, что Чуркина удивилась — черная бровь вопросительно вверх, губы поджаты. Она удивительно умеет разговаривать бровями и губами, так что все сразу понятно.
Когда я пришел в опустевший класс, Чуркина сидела на своем месте по-обычному хмурая и неприступная.
— Садись ближе! — пригласил я ее.
Тяжело ступая, она подошла и попыталась втиснуться в невысокую переднюю парту, но парта тоненько запищала и не впустила ее. Тогда, темнея от румянца, Чуркина села на парту, досадливо потянув ползущую вверх юбку на свои сверкающие капроновым переливом круглотолстые колени.
— Как ты думаешь, почему Алябьев бросил учиться? — в упор спросил я.
Тоня повела плечом, а уголок ее ярких губ поджался, образовав на щеке знакомую розовую вороночку.
«Не знаю. Откуда мне знать», — таково было содержание этого жеста.
Тоня не смотрела на меня, но по тому, как долго алели ее щеки, я понимал, что Тоня знает, и знает, должно быть, больше, больнее и заинтересованнее, чем кто-либо другой в классе. Слишком часто ловил я в последнее время ее осторожный, такой осторожный, что невнимательному и не заметить никак, взгляд в сторону парты Алябьева. И здесь уж хочется сказать, что, если ты учитель, и в особенности классный руководитель, никак нельзя тебе пренебрегать самыми, казалось бы, крохотными движениями душ твоих подопечных. А это понять нелегко, как нелегко разобраться в том, кому симпатизирует гордая Ида Чернец, куда посматривает равнодушный Кондратьев, что прячется за мышиной скромностью Раи Сафиной, кому отдает предпочтение ласковая со всеми Лида Горохова, что на уме у синеглазой стрекозы Задориной или за младенческим профилем Гали Бочкиной, а уж про моих продавщиц не говорю: загадка на загадке. Особенно эта черная газель Света Осокина. Вот опять уже неделю пропустила. Другие — те проще.
— Ну, что же? Посоветоваться с тобой хотел...
— Почему это со мной! — Чуркина уже обидчиво зыркнула острым глазом.
«Так и есть! Все правильно», — подумал я, а для вида вскипятился:
— Да ты же староста! С кем я должен еще советоваться?!
Мой возмущенный ответ несколько успокоил Чуркину, и, опять потянув юбку на колени, она вздохнула.
— Ты же должна знать, что делается в классе! Вот Осокиной уже давно нет...
Теперь опять губы поджались в уголок и правая бровь спряталась под густую блестящую челку.
«Все сам знает, а спрашивает», — было содержание этого жеста.
— Да что ты в молчанку играешь? Ведь знаешь все. Знаешь? — в самом деле рассердился я.
— Конечно, знаю! — Обе брови удивленно вскинулись, голова поднята, глаза искрятся. — Осокина под суд попала! Наверное, посадят ее!
— Что?! Что ты сказала? Под суд? (Ай да классный руководитель! Вот она, восточная мудрость!)
Ошеломленный, я настолько вопросительно уставился на Чуркину, что она пояснила:
— Ну вот... Ну, растрата у них. Во всей бригаде... И большая. Девчонки говорили: «Не покрыть». Обвес обнаружился. Обсчет. Пересортица. Светка, может, не самая главная, а отвечать всем. И ясно, что воровали. У них заведующая, знаете, какая? Такая: фу-фу! Вся в кольцах, соболях... А откуда? Да? И ясно все... Нет, вот по-честному не много соболей накупишь. Даже на рынке. А где взять лишнюю сотню? Ее заработать надо! А Осокина? Сапоги видали на ней какие? До... Ну, в общем, японские... А кофточки мохеровые? А туфли? А платья? А... — Тоня остановилась. И до чего же она была хороша в гневе! Опять поймал себя: любуюсь Чуркиной. — Ну вот, извините... Это я просто... Просто ненавижу воровок. Ненавижу! И правильно ей! Пусть не ворует. Если все будут воровать, что тогда будет?
Чуркина нервно, сердито ушла.
Я же еще задержался в классе, сидел и тупо смотрел в окно.
Медленно тлел, охлаждался под тучами ясный и матовый апрельский закат. Темнело, и звезды проглядывали, белели кое-где мелко и смутно.
Опять я получил неожиданную порцию холода. Ведь уже мнилось: все налаживается, с классом разобрался и самого меня как будто признали. Однако они-то, пожалуй, разобрались во мне скорее — их много, им легче...